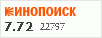ОБЗОР «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» (1985)
Иван Лапшин - начальник уголовного розыска небольшого города. В фильме, по воспоминаниям ребенка - сына одного из друзей Лапшина, реконструирован короткий отрезок его жизни. А также жизни его друзей и знакомых.
Этот фильм - рассказ о начальнике УгРо города Унчанска. Не говоря лишних слов, он делал то, что должен был - и делал хорошо. Может быть, излишне жестко. Но равнодушия не было. У него были друзья и женщина, которую он любил. События фильма, происходящие в 1930-е годы, подаются от имени человека (в ту пору 9-летнего мальчика), который рассказывает о них много лет спустя. В Лапшине нет ничего привычно героического. Несмотря на ужас бессмысленных убийств, с которыми ему приходится иметь дело, Лапшин знает, что в состоянии что-то исправить на этой земле.
1935-й год, провинциальный городок Унчанск. Иван Михайлович Лапшин (Андрей Болтнев), возглавляющий оперативную группу местного уголовного розыска, занят выслеживанием членов особо опасной банды Соловьева, на счету которой несколько десятков загубленных жизней. В город возвращается его старый друг, известный писатель и журналист Ханин (Андрей Миронов), сообщающий, что накануне навсегда простился с супругой Ликой... «Сейчас спать будем, а завтра на работу тебя с собой возьму. Разбойников ловить будем», - пытается отвлечь от тягостных мыслей Иван безутешного, хотя и прячущего душевную рану за напускной веселостью, товарища, только что неудачно пытавшегося застрелиться... (Евгений Нефедов)
МКФ В ЛОКАРНО, 1986
Победитель: Премия Эрнеста Артариа (Алексей Герман).
МКФ В РОТТЕРДАМЕ, 1987
Победитель: Приз критики (Алексей Герман, за фильмы «Проверка на дорогах», «Двадцать дней без войны», «Мой друг Иван Лапшин»).
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ РСФСР ИМ. БРАТЬЕВ ВАСИЛЬЕВЫХ, 1986
Лауреаты: режиссер Алексей Герман, сценарист Эдуард Володарский, художник Юрий Пугач, оператор Валерий Федосов, актеры Андрей Болтнев и Нина Русланова.
Киноповесть по произведениям и запискам Юрия Германа.
Сценарий картины был написан еще в 1969 году. Однако съемки фильма начались лишь спустя десять лет, после чего Алексей Герман решил переписать сценарий, при этом сохранив характеры главных героев из повести отца «Лапшин».
"Перед нами было два возможных пути - делать фильм приключенческий и делать фильм о любовном треугольнике, - позже рассказывал режиссер фильма, Алексей Герман, - Мы не выбрали ни тот, ни этот, смешали оба направления - главным для нас была не детективная интрига, не любовная история, а само то время. О нем мы и делали фильм. Передать его - было нашей самой главной и самой трудной задачей".
Первоначальный сценарий был переписан: за основу расследования, проводимого Лапшиным, было взято реальное дело Тюрина и Соловьева. В качестве консультанта выступал тогдашний начальник ленинградского Уголовного розыска, который рассказал сценаристам о методах работы УгРо, и о деталях этого дела. Впоследствии Герман в ответ на слухи о том, что высокие чины МВД цензурируют картину, говорил: "Пусть лучше заботятся, чтобы у них сейчас все было по закону, а за правду того, что у меня показано про 30-е годы, я ручаюсь. Я же не говорю, что так, как было, хорошо, я говорю, что так было".
Один из прототипов главного героя - работник уголовного розыска Иван Васильевич Бодунов (1900-1975 https://ru.wikipedia.org/wiki/Бодунов,_Иван_Васильевич).
При отборе актеров режиссер предпочитал малоизвестные зрителю лица. В результате главную роль получил новосибирский актер Андрей Болтнев, для которого картина «Мой друг Иван Лапшин» стала дебютной и одной из первых в его фильмографии.
Для роли журналиста Ханина нужна была долгая предыстория, времени для которой в фильме не было, поэтому на эту роль Герман выбирал высокопрофессионального актера. На роль Ханина пробовались Александр Филиппенко и Анатолий Васильев, но в итоге ее получил Андрей Миронов (1941-1987 https://ru.wikipedia.org/wiki/Миронов,_Андрей_Александрович).
На роль Окошкина пробовался новосибирский актер Евгений Важенин, но он уже был занят в театральном проекте, и роль досталась Алексею Жаркову (1948-2016 https://ru.wikipedia.org/wiki/Жарков,_Алексей_Дмитриевич).
Создатели фильма проделали кропотливую подготовительную работу по воссозданию атмосферы 1930-х годов: собирали фотографии и скупали в комиссионках одежду той эпохи, консультировались с милиционерами того времени, корректировали сценарий и тщательно подбирали локации.
Чтобы в деталях узнать работу уголовного розыска, Алексей Герман и его жена Светлана Кармалита (1940-2017 https://ru.wikipedia.org/wiki/Кармалита,_Светлана_Игоревна) целый месяц провели в тюрьмах, выезжали на допросы; режиссер и его помощники присутствовали при опознании убитых.
По словам режиссера, он хотел воссоздать "чеховскую" атмосферу, поэтому и перенес действие фильма из Ленинграда в провинцию.
Алексей Герман нашел в архиве газетную вырезку начала 1930-х со снимками деревянной арки и гипсовых пионеров у фонтана, с подписью «Такие вот замечательные сооружения воздвигнуты в Астрахани». К счастью, «реликвии» еще не успели снести, это и определило основное место съемок. Художнику Юрию Пугачу (1945-2019 https://ru.wikipedia.org/wiki/Пугач,_Юрий_Яковлевич) осталось только украсить арку гирляндой лампочек и повесить портреты.
Кадры фильма - https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/3952/foto/.
Герман начал снимать картину со сцены опознания убитых в судебно-медицинском морге, с настоящим покойником, которого в кадре, правда, не было видно, но все участники съемки могли испытать те же ощущения, что и герои. Но актерам это только навредило, они фальшивили, и эпизод не включили в фильм.
Транспортные средства, показанные в картине - http://imcdb.org/movie.php?id=84345.
Оружие в фильме - http://www.imfdb.org/wiki/My_Friend_Ivan_Lapshin_(Moy_drug_Ivan_Lapshin).
Цитаты - http://citaty.vvord.ru/citaty-k-filmu/Moy-drug-Ivan-Lapshin/ и текст фильма: http://cinematext.ru/movie/moj-drug-ivan-lapshin-1984/; http://vvord.ru/tekst-filma/Moy-drug-Ivan-Lapshin/.
Тексты песен. «КИРПИЧИКИ» (муз. В. Кручинин, сл. П. Герман): На окраине, где-то в городе Я в убогой семье родилась, Лет пятнадцати, горе мыкая, На кирпичный завод нанялась. Было трудно мне время первое, Но зато проработавши год, За веселый гул, за кирпичики Полюбила я этот завод. На заводе том Сеньку встретила. Вот, бывало, услышу гудок, Руки вымою и бегу к нему В мастерскую, накинув платок. Кажду ноченьку мы встречалися, Где кирпич образует проход... Вот за Сеньку-то, за кирпичики Полюбила я этот завод. Тут пошла война буржуазная, Огрубел, обозлился народ. И по винтику, по кирпичику Растаскал опустевший завод Но то Смольного счастья вольного Развернулась рабочая грудь. Порешили мы вместе с Сенькою На кирпичный завод завернуть. Было трудно нам время первое, Но потом, проработавши год, По кирпичику, и по винтику Возвратили мы этот завод. «КОМИНТЕРН» (муз. Г. Эйслер, сл. И. Френкель): Заводы, вставайте! Шеренги смыкайте! На битву шагайте, шагайте, шагайте! Проверьте прицел, заряжайте ружье... На бой пролетарий за дело свое... Товарищи в тюрьмах, в застенках холодных Вы с нами, вы с нами, хоть нет вас в колоннах, Не страшен нам белый фашистский террор, Все страны охватит восстанья костер. На зов Коминтерна стальными рядами Под знамя Советов, под красное знамя. Мы красного фронта отряд боевой И мы не отступим с пути своего. «УТРО ТУМАННОЕ» (муз. В. Абаз, сл. И. Тургенев): Утро туманное, утро седое, Нивы печальные, снегом покрытые... Нехотя вспомнишь и время былое, Вспомнишь и лица, давно позабытые. Вспомнишь обильные, страстные речи, Взгляды, так жадно и нежно ловимые, Первая встреча, последняя встреча, Тихого голоса звуки любимые. Вспомнишь разлуку с улыбкою странной, Многое вспомнишь родное, далекое, Слушая говор колес непрестанный, Глядя задумчиво в небо широкое.
Первый вариант фильма под названием «Начальник опергруппы» был закончен в 1982 году. После внесенных поправок и доснятых сцен картина под названием «Мой друг Иван Лапшин» получила в Госкино разрешительное удостоверение от 5 июня 1984 года.
Премьера: январь 1985 (СССР).
Англоязычное название - «My Friend Ivan Lapshin».
Трейлер - https://youtu.be/M-JdNriLu5g.
Официальная стр. фильма - http://www.lenfilm.ru/cinema/filmography/annotation_catalog/254/.
Обзор изданий картины - https://vobzor.com/page.php?id=117.
«Мой друг Иван Лапшин» на Allmovie - https://www.allmovie.com/movie/v120929.
Стр. фильма на Rotten Tomatoes - https://www.rottentomatoes.com/m/moy_drug_ivan_lapshin.
«Мой друг Иван Лапшин» входит в престижные списки: «Лучшие фильмы» по версии сайта They Shoot Pictures; «100 лучших фильмов» по версии гильдии кинокритиков РФ; «Рекомендации ВГИКа»; «100 лучших фильмов РСФСР и РФ» по версии сайта RosKino.
Рецензии: https://www.imdb.com/title/tt0084345/externalreviews; https://www.mrqe.com/movie_reviews/moy-drug-ivan-lapshin-m100042191.
Как это снято: «Мой друг Иван Лапшин» - https://tvkinoradio.ru/article/article9407-kak-eto-snyato-moj-drug-ivan-lapshin.
Подкаст «Monday Karma» о фильме - https://soundcloud.com/monday-karma/moy-drug-ivan-lapshin.
Юрий Павлович Герман (22 марта 1910, Рига - 16 января 1967, Ленинград) - русский советский писатель, драматург, киносценарист, лауреат Сталинской премии второй степени (1948). Подробнее - http://ru.wikipedia.org/wiki/Герман,_Юрий_Павлович.
Алексей Юрьевич Герман (20 июля 1938, Ленинград - 21 февраля 2013, Санкт-Петербург) - советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер и продюсер; народный артист РФ (1994), заслуженный деятель искусств РСФСР. Обладал характерной, близкой к документальной, манерой черно-белой съемки художественных фильмов. Подробнее - http://ru.wikipedia.org/wiki/Герман,_Алексей_Юрьевич.
Сайт об Алексее Юрьевиче Германе - http://alekseygerman.ru/.
Антон Долин: «Герману-старшему многие завидовали» - https://www.filmpro.ru/materials/16676.
Александр Федоров. «Три фильма Алексея Германа» - http://kino-teatr.ru/kino/art/kino/2075/.
Эдуард Яковлевич Володарский (3 февраля 1941, Харьков - 8 октября 2012, Москва) - советский и российский киносценарист, драматург и прозаик. Подробнее - http://ru.wikipedia.org/wiki/Володарский,_Эдуард_Яковлевич.
Андрей Николаевич Болтнев (5 января 1946, Уфа - 12 мая 1995, Москва) - советский и российский актер. Учился в Ярославском театральном училище с 1970 по 1972 год. После окончания училища Болтнев работал в театрах Уссурийска, Майкопа и Новосибирска. В 1985 году заочно окончил Ташкентский театрально-художественный институт им. А. Островского. Впервые появился на киноэкране в 1983 году, сыграв в фильме Семена Арановича «Торпедоносцы» капитана Гаврилова. Широкую известность актер получил после того, как на экран в 1984 году вышел фильм Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин», где он исполнил главную роль. Но по-настоящему популярным его сделала работа в телесериале «Противостояние», поставленном по одноименному роману Юлиана Семенова. В телефильме Андрей Болтнев сыграл одну из главных ролей - предателя Кротова. После этих успешных работ актер новосибирского театра получил приглашение в столичный Академический театр им. Вл. Маяковского. Скончался Андрей Болтнев от инсульта. Похоронен в Москве, на Востряковском кладбище. Длительное время его не могли похоронить из-за отсутствия московской прописки. Дочь Андрея Болтнева - актриса Мария Болтнева, известная по роли Насти Клименко в т/с «Глухарь» (2008).
ИНТЕРВЬЮ С АЛЕКСЕЕМ ГЕРМАНОМ
- Какой все-таки текст лег в основу «Моего друга Ивана Лапшина»?
- У папы о Лапшине есть две книги. Одна - прелестная, высокохудожественная книжка «Лапшин». Симонов считал, что такое может написать только старый человек, а пришел мой папа, двадцатитрехлетний, - и написал. Это была вещь об одиночестве, написанная в стране, где отрицалось одиночество. В этом сила папы, за которую я его так и ценю. Вторая - «Один год», плохо написанная, вся построенная на любви к Хрущеву и желании ему угодить. Но Чурбанов прочитал «Один год» и сказал: «Нам нужны такие герои, как Лапшин». Это напечатали в «Правде». Вокруг меня завертелось милицейское колесо, меня стали склонять сделать этот фильм. Я-то хотел сделать фильм не по той книжке, которую прочитал Чурбанов, а по первой повести! Есть писатели, реализовавшие себя на 300%, на 200%, на 150%... Папа себя реализовал на 30%. Он мог бы быть очень крупным писателем, но, кроме нескольких глав трилогии, «Подполковника медицинской службы», «Лапшина», «Жмакина» и повести «Здравствуйте, Мария Николаевна», он ничего по-настоящему значимого не написал. Какая-то идея ему не давала писать: он же всерьез мне говорил после войны, что война невозможна - «трудящиеся всего мира откроют нам ворота»! Он разрывался между этим и ненавистью к строю, который посадил столько людей. Папа абсолютно распахнулся Хрущеву, считая его приход к власти избавлением, и тогда вступил в партию.
- Он был близко знаком с прототипом Лапшина - Иваном Бодуновым, героем нескольких его книг?
- Папа был доверчивый человек, он влюблялся в людей. В этом было его отличие от меня: я не влюбляюсь. Могу хорошо или плохо относиться, переживать за кого-то, не мочь его терпеть, потом простить, но не влюбляться. А папа был влюблен в Бодунова. Дружба их началась еще до войны - ведь «Лапшин» был написан до 1937 года. У него было письмо от Зиновьева: рекомендация, чтобы папу ввели в жизнь ленинградского уголовного розыска. Его взяли на дело, но поставили у нарисованного, фальшивого окна с пистолетом. После этого его подружили с Бодуновым - тот был начальником одной из бригад ленинградской милиции. Это была бригада разведчиков. Был в ней, к примеру, такой Побужинский, который попал в милицию необычным образом: он вез муку на мельницу, на него напали бандиты, а он их всех перебил, сложил под муку и привез на площадь. Тогда его в милицию и зачислили. Потом их всех арестовали, а Бодунова отправили на Кавказ ловить банды. Это помогло ему выжить. Во время войны Бодунов был как-то связан с партизанами, а после войны занимался реабилитациями. Я с ним тоже был знаком. Наверное, он был храбрый человек, отважный ловитель бандитов; папа видел его в деле. Хобби его было - избивать шпану: он брал трех-четырех своих удальцов, шел по улице в штатском и избивал, а потом садился в трамвай и уезжал. Зато шли слухи: «Ваньку Корзубова так отметелили, что он домой на четвереньках приполз». Все мое знакомство с Бодуновым состояло из его рассказов о том, как надо пороть внуков. По мне, он был полный идиот - но папа светился, когда его видел, а папа не был глупым человеком.
- Ваш отец дружил со многими чинами из милиции. Помните кого-то из них, из детства?
- Был у папы друг - начальник ленинградской милиции, с которым они вечно выпивали на кухне по несколько бутылок коньяка. Милый человек Иван Владимирович Соловьев. Был у него огромный кабинет напротив Эрмитажа, он там сидел за гигантским столом. Помню, как-то я попросил его, чтобы моему товарищу Когану продлили прописку на год - тогда он смог бы учиться в аспирантуре. Мы встретились, и тот разрешил... А потом встал из-за стола, и я офигел: он сидел там без штанов, в одних трусах. Дело в том, что он был в войну танкистом - у МГБ были свои танковые дивизии, на случай подавления восстаний в лагерях. Однако восстаний не произошло, и танки двинули на фронт. Он воевал и довоевался до командира дивизии, генерала и Героя Советского Союза. Кончилась война, его сделали начальником ленинградской милиции. А ведь танкисты весной и осенью не могли ходить в сапогах - грязь налипала; и молодые бегали от танка к танку босиком. Он добился того, что с венами у него было что-то страшное - и не мог надеть штаны. Надевал, только если из обкома приходили. Как-то раз я спрыгнул с подножки трамвая - тот уже тормозил, - и меня арестовал милиционер, старшина. Прицепился ко мне, повел в отделение, а между дверями разбил мне лицо. Я сижу, вынашиваю планы злобной мести. Потом подхожу к дежурному, говорю: «Мне надо срочно позвонить». Мне дали: «Давай, быстро». Звоню Ивану Владимировичу по прямой линии, рассказываю, что случилось. Он отвечает: «Передай трубку дежурному». Я передаю, у того сразу скисает голос, а потом он мне говорит: «Иди отсюда». Потом, через две недели, я на той же улице встретил этого старшину: он сделал вид, что меня не видит.
- То есть ваши отношения с милицией складывались не так радужно?
- Я же был без пяти минут преступник. Однажды человека чуть не убил. В начале 1960-х у меня был друг по фамилии Зельманов - по-моему, немец с какой-то примесью. Он был невероятно силен, как горилла; выпарывал из пиджаков плечики, чтобы не казаться слишком широкоплечим. В ресторане к нам несколько раз приставала шпана, а один шпаненок меня тронул за лицо. Тогда Зельманов вступил в действие - отколотил всех, а я одного; одному он вмазал так, что тот ехал по полу до оркестра. Весь ресторан встал и аплодировал, причем не ему, а мне (ведь у меня, а не у Зельманова были прекрасные отношения с милицией). Потом мы вышли на улицу, нас окружили две машины такси, и из них вышло восемь человек, нас бить. Я не был страшно избит, поскольку зажался между домом и будкой для чистки ботинок. А Зельманова избили страшно. Когда же засвистела милиция, он одного поймал - сломал ему руку и лицом его ударил о заворачивавший из-за угла автобус. Зельманов убежал, тот лежит, подходит какой-то человек, слушает пульс и говорит, что пульса нет: он мертвый. Я пошел домой. В шесть утра я разбудил папу и сказал, что, очевидно, я принял участие в убийстве человека. Папа позвонил своему корешу - начальнику милиции, тот позвонил начальнику по городу, и выяснилось, что ни одного случая убийства зарегистрировано не было. Потом уже как-то я встретил этого несчастного загипсованного человека. Но несколько часов я провел в шкуре убийцы. Вокруг папы роились капитаны, старшие лейтенанты... А у меня от них было огромное количество пистолетов. У них в кабинетах на полках были навалены эти пистолеты. Вот они арестовали какого-то человека, и им надо, чтобы он на них работал, но если в его дело поместят пистолет, он сядет. То есть выпадет из категории стукачей. Поэтому забирали - и отдавали. Им самим не было нужно. Например, у меня был пистолет с прозрачной ручкой, в которой были видны патроны. Так вот, когда произошла та драка, я только после нее сообразил, что у меня в кармане был пистолет. Через некоторое время папа мне сказал, что в Сосново неспокойно, попросил меня дать ему все эти пистолеты... И все их выбросил в сортир. Все до одного. Правильно сделал.
- В титрах «Лапшина» вновь значится Володарский.
- Я о нем говорить по-прежнему не хочу. В моей жизни его нет. А «Лапшин», с моей точки зрения, родился из повести папы и из реального уголовного дела.
- То есть у вашего фильма есть серьезная документальная основа?
- Еще какая! Когда мне настойчиво предлагали делать «Лапшина», я сначала отказывался. Говорил милицейским начальникам: «Вы мне ничего не показываете - одну ерунду. У вас вчера бандит изнасиловал девочку и ложкой выковырял ей глаза, а вы мне об этом ничего не рассказали. Я так снимать кино не буду». После этого нам многое показали, многие дела открыли. Я видел невероятный ужас. Видел, как сидят в тюрьме проститутки, которых часто туда привозят их собственные мужья за заражение. Страшные темные катакомбы, и там какие-то свечи, ходят люди в белых платьях. Я совершенно ошалел, а надзирательница, наколотая до загривка, все время пыталась кого-то из нас схватить за зад. Через некоторые время выяснилось, что белых платьев нет. Это простыни, в которые заворачиваются проститутки, потому что в тюрьме они сидят голые. Сидят голые - но кокетничают. А в центре эта наколотая прапорщица. Судебно-медицинский морг - вообще что-то. Ты сидишь, и несут человека, который повесился и провисел три недели: он трехметровой длины. А потом пронесли человека, которого в зоне зарезали, и у него из живота выпадали куски каши. На вид абсолютно съедобной. Там же лежал инвалид, обгоревший в костре; на его члене было вытатуировано слово «Боец». Я в этом очень много жил. Считаю, что первые мои сердечные неприятности начались от этого. Я туда приходил, там сидел, а вся моя съемочная группа - оператор, второй режиссер - надевала шапки на лицо. Они не хотели на это смотреть, а я смотрел. Мне нужно было Лапшина впустить в этот мир, где все на грани обморока, а он смотрит на это как на работу: пришел, сделал, ушел. Мимолетный эпизод в его довольно грязной, вонючей работе. Кончилось все это довольно смешно. Я нашел самый страшный труп - он так долго лежал, что у него выросла борода, необычная: длинные, толстые нити свисали с лица. Установили три камеры, чтобы зафиксировать реакцию актеров - их взгляд на труп. Открылись двери и вошли наши артисты: специально подобранные типажи того времени. Болтнев, икнув от ужаса, сдернул простыню... Да, русского человека ничем не удивишь. Один только сказал: «Ай-ай-ай. За что же они его, а?» Почему мы решили, что то, что производит впечатление на нас, так же впечатлит астраханскую массовку? Съемка была загублена. Мы это потом выбросили.
- Это было ваше первое столкновение с криминальным миром?
- Впервые с этим миром я столкнулся еще тогда, когда снимался «Рабочий поселок». Снимали прямо около лагеря, декорация была в двух шагах. Уголовников мимо везли на работу, и они все время просили чаю. «Чайку приверти, начальник, а?» Я взял десять пачек и передал. Меня - под белы руки и в зону, к полковнику. «Вы что? Вы что передали?» - «Чай, - говорю. - Что я сделал-то такого? Людям чай попить!» Он говорит: «Ну ладно, идите к такой-то матери. На свою беду я разрешил тут декорации строить». А потом меня останавливает: «Товарищ Герман, я вам честное слово даю, что это не выйдет за границы кабинета - но вы что, честное слово не понимаете, что передали?» - «Чай». - «А для чего?» - «Чифирь делать». - «И больше ничего? Как же вы живете, ничего не знаете... Если бы чифирь! Они им колются». Оказываются, они делают жуткий навар - ив вену. Авторучкой!.. А чифирь - это на Севере, у костерка, с рассказом о подвигах Чкалова. Я очень хорошо знаю запах тюрьмы. Кисловатый запах в будке, похожей чем-то на будку телефона-автомата, в которой лампочки нет: называется «стакан»... Мы со Светланой очень большое время провели в «Крестах». Сидели на допросах разбойников, убийц. Светлану там однажды даже вытошнило. Нас представили по ошибке как врачей, хотя они уже прошли врачебную экспертизу. Оказалось, все происходит не так, как пишут в книгах и статьях. Они не требуют отдать им бриллиантовое колье. Они берут в заложники мальчика или девочку и говорят: «Мы тут все собрали, а теперь ты пойдешь и соберешь в долг еще пятнадцать тысяч, до завтрашнего утра. Не соберешь - сейчас будем е...ть». И эти жертвы, заплаканные, ничего не объясняя, собирают деньги. Никто ничего не требует - ты несешь сам, а тебе еще тычут в нос, что ты несешь дешевое или не то. Все они играются: «Нам с детства снилось, что будем красть и убивать». Главного звали Шемеля. Они играли в судьбу. Ни за чем не охотились - ехали по случайной железной дороге, выходили на случайной станции, заходили в случайный дом. Грабили, убивали, иногда зарабатывали пару туфель и несколько рублей. Сели они, потому что были пьяны, тоже по случайности.
- Вы общались с самими преступниками - или только со следователями, с милицией?
- Не только общался, они у меня играли! В тюрьмах я тогда многого насмотрелся. Например, смертников. Мне казалось, что они все под кайфом - хотя меня уверяли, что им ничего не дают. Все спали в одинаковых позах. Горела электрическая лампочка, лежала нетронутая пайка хлеба, стоял остывший чай. Это всегда особенный отдел - для смертников, там их в каждой тюрьме человек шесть-семь. Тогда расстреливали. Мне рассказывали, как именно. Была специальная камера, в которой не было ни одного угла, и все одновременно начинали по приговоренному палить. Никому заранее не говорили, что ведут на расстрел. После смертного приговора ты писал просьбу в Верховный Совет РСФСР. Приходил отказ, и тогда ты писал в Верховный Совет СССР. Опять приходил отказ, но об этом тебе не сообщали. Просто приходили и говорили, что переводят на другое место, и вели в расстрельную камеру в другой флигель. В некоторых тюрьмах был прапорщик, который стрелял в затылок; ему полагалось 14 рублей и день отгула. Во времена Лапшина и вовсе можно было прочитать в деле: «Упал с кровати, отбил сердце и легкие». Милиционеры сами над этим хохотали. Строжайшая тюрьма за Астраханью - вход через два тамбура. Именно там я должен был посмотреть самого мерзкого преступника. Бандит, убийца, который вышел из тюрьмы, пришел домой и изнасиловал мать. Мать после этого на него и донесла. Сижу я, входит какой-то беленький человек. Поговорили о том, о сем, он вышел. Я продолжаю сидеть. Спрашиваю: «Где убийца-то?» Мне отвечают: «Да вот же он был!» Представить себе невозможно - нормальный такой человечек, с улицы. После этого и решили взять на роль убийцы в фильме такого же.
- Так тот персонаж, который по фильму зарезал героя Миронова, - не профессиональный актер?
- Он не актер, он был нормальный уголовник. Зэк. Я очень легко отличал сидевших людей - у них какая-то другая кожа. Авитаминозная. И запах тюрьмы. Я к нему подошел и спросил: «Вас как зовут?» - «Жора». - «Вы не сердитесь на меня, я кинорежиссер, мне нужно знать - вы в тюрьме случайно не сидели?» - «А как же! 11 лет». - «За что?» - «Во-первых, по статье за воровство, а там еще убийство подкатило». - «А у меня не можете сняться?» Он захотел. Стали мы с ним работать, и он нам очень много показывал - как надо, как не надо. Я его спрашивал: «А как с бабами в тюрьме?» Он говорил: «Ну как - вообще, грелка, ее из камеры в камеру передают. Процарапаешь - тебя убьют. А у меня на лесоповале была киргизка. Такая умная! Ты ей хлеба дашь - она сразу хвост в сторону». Я решил, он говорит о киргизской женщине, и только потом начал понимать, что он говорит о лошади. Думаю, я сейчас сблюю, а он бежит за мной и кричит: «Алексей, поверь, лошадь - гораздо лучше бабы! Кто пробовал лошадь, к бабе больше не полезет». Как его боялся Миронов! Что-то было в глазах у этого Жоры Помогаева, от чего Миронов стекленел от ужаса. Он умолял: «Что хочешь делай! Пусть меня лучше шесть человек зарежут! Пусть собаки съедят - только не он!» А тот ему: «Дяденька, дяденька, ты что?»
- Эта сцена - одна из самых страшных за всю историю советского и российского кино.
- Когда Миронова зарезали, мы оказались перед серьезной проблемой: ведь невозможно сделать грим человека, которому только что ножом проткнули желудок. Миронову с его острым носиком - точно нельзя. Я тогда ему говорю: «Андрюха, если ты плохо сыграешь эту роль, на тебе как на драматическом актере поставят крест. У меня все-таки репутация человека, который умеет с артистами работать. Давай как-то вместе выпутываться». Он говорит: «Как?» Я тогда показываю ему дорожку между бараками, где мы снимали эту сцену: она состоит из смеси говна шведского, говна Петра Первого, говна Нарышкина, говна лакеев Екатерины, немножко пыли... А там еще рядом огороды клубничные, тоже сделанные из говна. «Так вот, мы сейчас эту дорожку польем, и ты ткнешься туда лицом. Высохнет - будет то, что надо». Долго вели с ним переговоры. Наконец, проклиная все и всех - кино, маму, меня, Голубкину, - Миронов страшно кряхтит и ложится, сует лицо в говно, потом поднимает. С него текут сопли. Я говорю: «Пошевели еще, пошевели». Поднимаю глаза на второго оператора Толю Родионова, а тот руками делает крест: все, свет кончился! И все убегают, сначала сунув мне воду, мыльницу и полотенце. Миронов поднимает голову и сразу все понимает: «Сволочи! Какие сволочи!..» Ну что, макался и второй раз. Здорово получилось. (Из книги Антона Долина «Герман: Интервью. Эссе. Сценарий»)
[...] Фильм в контексте нового времени, производит светлое впечатление, и даже странно, что в момент выхода он казался сложным и не вполне понятным. [...] (Алена Солнцева, «Московские новости»)
Советская классика на большом экране - это всегда хорошо. В этот раз до кинотеатров добрался отреставрированный шедевр Алексея Германа - история Ивана Лапшина, начальника уголовного розыска провинциального городка, который живет в опасные 1930-е, пытается выследить бандита и построить романтические отношения с актрисой местного театра. После первых показов фильм раскритиковали за кхм-кхм «дегероизацию 1930-х» - оттого, кажется, интересней смотреть фильм сейчас и осознавать, что Герман дал точнейший портрет эпохи. (Алихан Исрапилов, «Film.ру»)
Оригинальнейшее произведение кинематографа. История начальника уголовного розыска города Унчанска, Ивана Лапшина, короткий кусочек его жизни и его друзей, товарищей и знакомых, воспроизведен как увиденный и "вспомненный" мальчиком. А то, что он не мог видеть сам, дополнено его фантазией по рассказам. Происходящее на экране снято как бы скрытой камерой. Нашел вроде бы режиссер щелку в прошлое через пласт времени, и подглядывает. До сих пор все это непривычно, нет подчинения жанру, соблюдения правил, штампов - только сейчас элементы творческой, но продуманной свободы этой картины можно найти в таких коммерческих лентах, как "Трейнспоттинг", "Неглубокая могила" и, пожалуй, в ленте "Град камней". Не могу сказать, что фильм Вас развлечет, но если Вы ищите в кино искусство, то это высочайший его образец. Более всех, наверное, способны оценить эту вещь сами "киношники". Текст от автора читает Валерий Кузин. (Иванов М.)
12 бриллиантовых ролей Андрея Миронова. [...] Ханин. Отдельно от всего остального сыгранного Андреем Мироновым, безусловно, стоит работа с Алексеем Германом. И дело не только в том, что этот режиссер славится своим перфекционизмом в картинке и глубоким драматизмом в содержании, но и в том, что на Миронова лег едва ли не самый тяжкий груз в этом фильме, ведь если характер Лапшина по мере действия только формируется, то мироновский Ханин - это личность, которая переживает слом. Здесь Герману нужен был серьезный артист, способный прочувствовать предысторию своего персонажа, и всем нам несказанно повезло, что режиссер осмелился обратиться к Миронову, далекому, на первый взгляд, от Ханина, как Луна от Земли. Каждый кадр этого фильма - серьезная работа всей съемочной группы, но кадры с Мироновым - особенное эстетическое и киноманское удовольствие. Безусловная вершина карьеры великого актера. Цитата на память: «Интересно, что это такое здесь? Статейку поймал в супе. Тааак...» [...] (Евгений Ухов. Читать полностью - https://www.film.ru/articles/mister-fest)
Небесные тела истории: 80 лет Алексею Юрьевичу Герману. [...] Следом начался Алексей Герман, каким мы его знаем: квази-автобиографичный, смешивающий память и вымысел, реальность и дремоту или морок, дотошный реализм и такую концентрацию звуков, предметов и лиц, что органы восприятия оказываются растеряны, как под ковровой бомбардировкой. Посреди этого тихого вихря живут ветераны Гражданской войны, сотрудники угрозыска в небольшом городке Унчанск в картине «Мой друг Иван Лапшин». Тут режиссер взялся за текст повести отца, прославленного писателя Юрия Германа, который для него являл едва ли не целый мир: в интервью Герман вспоминает его как большую противоречивую фигуру, вместе с тем - как небожителя, человека удивительных, редких сегодня свойств (в сущности, Лапшин в исполнении Андрея Болтнева и олицетворяет этот не то чтобы идеализированный, но по-своему возвышенный типаж). Здесь же чувствуется легкий налет античной трагедии: Лапшину и его товарищам (среди которых и писатель Ханин, сыгранный Андреем Мироновым), уже прошедшим минимум одну войну, впереди видится мирное небо, хотя там - и этот исторический саспенс как будто вынесен за скобку - Вторая Мировая. [...] (Алексей Филиппов, 2018. Читать полностью - https://www.kino-teatr.ru/blog/y2018/9-20/1122/)
Из чего сделан Иван Лапшин? Из того же, что и вся наша обозримая в прошлом история. Из туго подпоясанного пальто, из однообразной игры скул, из горы окурков, холодного кабинета, мотоцикла на снегу и общежитий барачного типа. Из быта, не желающего оставаться бытом. И величие Алексея Германа как раз в том, что он не отвернулся от физиологического слоя, не раскрасил его в уже тогда доступные кодаковские цвета, а вытащил наружу конвульсивный эпический нерв. Тогда и стало видно, как вся эта тряская, немытая, убогая, неуютная, плохо пригнанная и лязгающая жизнь героев и их чувств стремится стать эпосом героев и чувств. Как случайно схваченные объективом лица, мотивы и поступки хотят быть гимном или притчей. То были счастливые времена, когда фрагмент авторского дискурса мог составить прижизненную славу борца за идею. Но за какую идею? Едва ли прежние либеральные зрители «Лапшина» захотели бы признать, что рукоплескали фильму, в котором все - экзальтированный диалог человека с творимой им Историей. И в этом диалоге История выше, прекраснее, сильнее человека как идеально взятой судьбы. Сокрушив соцреализм как систему условностей, Герман вернул соцреализму его трагическую ипостась. Но время трагедии сменилось эпохой общественных катаклизмов. Жизнь, ставшая вровень с человеком, обернулась фарсом. Тем важнее присутствие в ней Ивана Лапшина - человека и Истории. (Сергей Добротворский, «Сеанс»)
Средь покосившихся заборов, пионерских санпостов и гипсовых дискоболов в трусах бригадир угрозыска (Болтнев) ловит банду дебилов-убийц и ищет взаимности у актрисы погорелого драмтеатра (Русланова). Финальный гоп-захват поганых выползней станет таким же эталоном грязного милицейского боевика, каким был "Французский связной" для американского криминального жанра, - в остальном Герман останется верен старопитерской литературной традиции превращать ядреные детективы в новые заветы и энциклопедии русской жизни. Его фильм - сентиментальный марш по большим людям в кепках и ратиновых пальто, которые в хронике двигались чуть быстрее, а оттого казались еще энергичнее, чем были на деле. Породе неправильных великанов, грубой и спешной выделки бритоголовых гладиаторов, дерганых, культяпых, смертных детей богов, рабов и жар-птиц, успевавших одновременно тягать гири, добывать дрова, хором петь глупости и делать большую историю. Все культовые фильмы вялых новейших времен были притчами о силе - братской, эльфовской, матричной и маклаудской. Резкое поправение прародины большевизма так и не развеяло шершавой магии первой из них - песни о дикой, доброй, жаркой и классовой силе начальника провинциальной опергруппы. Восторжествовавшее в реформенной России гадливо-чистоплюйское отношение к 30-м всякий раз спотыкалось именно об эту корявую оду нагану, шахматам, козьей ножке и львиному сердцу волкодава. (Денис Горелов, «Афиша»)
По поводу фильмов Германа я не принимаю никаких мнений, кроме положительных. Кому-то, правда, они кажутся скучными, унылыми и депрессивными, но такое кино и не смотрят ради того, чтобы расслабиться. Каждый фильм Герман делает подолгу, старательно и оттачивает каждый кадр. Пусть он и перфекционист, но я уверена, что среди его фильмографии нет ни одного фильма, за который пришлось краснеть. «Мой друг Иван Лапшин», на мой взгляд, один из лучших фильмов режиссера. Он чем-то напоминает «Место встречи изменить нельзя» (действующее лицо - сотрудник уголовного розыска, действие разворачивается в предвоенное время) и «Холодное время 53-го» (атмосфера депрессивности и отчуждения). Для тех, кто привык к тому, что кино про уголовный розыск - это в буквальном смысле кино про уголовный розыск как процесс, предостережение: погонь и перестрелок не ждите. Фильм снят почти как документальный, он не рассказывает историю, а скорее описывает жизнь и быт советских людей. Потому стоит отметить операторскую работу, я не заметила ни одного кадра, который бы резал глаза или был неуместен/не вовремя/не в тему. Блестящий актерский состав, особенно Андрей Болтнев в роли Лапшина и Андрей Миронов, о котором я была до этого худшего мнения и думала, что его звали только на роли аферистов и хертбрейкеров. «Мой друг Иван Лапшин» явно понравится тем, кто позитивно или негативно неравнодушен к советским временам и/или родился поздно для того, чтобы о них помнить и хочет хотя бы одним глазом увидеть, как все было тогда. Полудокументальный и очень реалистичный фильм Германа как раз подойдет для таких целей. Наблюдать и наслаждаться. (Holly Wolly, «Иви.ру»)
Ящик Германа (к 70-летию режиссера). Писать об Алексее Германе самонадеянно и бесполезно, поскольку все о нем уже сказано - и даже больше. С момента перестроечной легитимизации, когда были сняты с "полки" фильмы «Мой друг Иван Лапшин» (1982, выпущен в 1985-м) и «Проверка на дорогах» (1971, выпущен в 1986-м), каждый фильм Германа обрастал массой восторгов и тщательных комментариев. Герман снимает так долго, что приученная пресса, не дожидаясь премьеры, отвешивает поклоны мэтру на основании интервью, фотокарточек и заметок со съемочной площадки очередного долгостроя; пока Герман доведет фильм до экрана, многих изданий может уже не быть в живых. «Хрусталев, машину!» начинал сниматься еще при советских коммунистах в 1991-м, но вышел в прокат (на всех парах проскочив период разгильдяйской демократии) только в 1999-м году, когда казалось, что выиграв парламентские выборы, коммунисты снова поднимают голову. У Германа свой ритм и своя скорость, к которой не смогли приспособиться ни идеологическая советская кинематография, ни, тем более, нынешняя российская киноиндустрия, погрязшая в навязчивой всеотупляющей коммерции. Как и некоторые другие выдающиеся отечественные режиссеры, коих можно пересчитать по пальцам одной руки, Герман держится особняком. Специфика его творческого процесса такова, что ей бесполезно обучаться и невозможно перенять, так как нельзя воспрепятствовать очевидным истинам производственного цикла - нельзя снимать фильм 7 лет. Даже видному кинодеятелю никто не позволит столько времени держать на одном проекте съемочную группу и бесконечно удовлетворять вновь возникающие потребности, продиктованные прихотью художника. Герману это удается. [...] Или другой фильм - «Мой друг Иван Лапшин». В то время прогрессивным считалось идти в ногу с нарастающим движением обличающих настроений. У Германа мы видим тихую жизнь незаметных советских людей в провинциальном городке Унчанске, лишенную как идеологического лизоблюдства, так и антисоветских намеков. Вышло так, что Герман не отказывается от прошлого и, тем более, не собирается его поносить. Лента получила Госпремию и несколько призов на МКФ в Локарно, но за рубежом принята не была - там ждали других откровений перестроечного искусства. ("А когда я привез туда в 86-м году «Лапшина», рецензия была в "Нью-Йорк Таймс", если ее разобрать и красивые слова убрать, что дегенерат привез дегенеративный фильм"). Однако Герман вновь обогнал время, не поддаваясь на посулы скорой славы и благоприятные обстоятельства для самовыдвижения. Сегодня «Лапшин» смотрится эталонным образцом исторического фильма, который конгениально выстраивает отношения с эпохой - без заискивания перед прошлым, спекуляций и искусственного контраста с настоящим. В основе метода - сгущенная экранная реальность лиц, предметов, тончайшая имитация фактуры, построенная на документах и контролируемая авторской памятью. [...] (Владислав Шувалов, 19 июля 2008. Читать полностью - http://www.cinematheque.ru/post/137976)
Образ времени. У режиссера Алексея Германа есть исключительное свойство воссоздавать приметы прошлого во всех мельчайших подробностях. Как и в предыдущем фильме «Двадцать дней без войны» (1976), в каждом кадре его картины «Мой друг Иван Лапшин» (по мотивам прозы Юрия Германа) ощутим авторский почерк - герои середины тридцатых годов кажутся не сыгранными, а словно снятыми на черно-белую пленку скрытой камерой тогда, полвека назад. Выбор актеров безупречен. На роли главных героев - сотрудников опергруппы утрозыска, людей открытой и широкой души, искренной убежденности в том, что скоро они очистят землю от нечисти, насадят сады и сами еще успеют там долго и счастливо жить, - режиссер намеренно приглашает актеров непримелькавшихся, удивительно точно вписывающихся в атмосферу времени - Андрея Болтнева (начальник угрозыска Иван Лапшин), А. Жаркова, А. Филиппенко. Появление в столь документально - типажной атмосфере такого популярного актера, как Андрей Миронов, кажется поначалу неожиданным. Но потом понимаешь авторский замысел. Известность актера накладывается в фильме на известность, свойственную профессии его героя - писателя и журналиста. Среди простоватых и порой не очень грамотных друзей он неизбежно выделяется - не только внешним, чуть франтоватым видом и манерами, но и состоянием души. За бравадой и веселостью ощутим внутренний надлом, внезапная смерть близкого человека становится для него подлинной трагедией. В этой роли А. Миронов освобождается от многочисленных штампов, несколько однообразных ролей ловких про проходимцев или незадачливых растяп, сыгранных в последние годы. Кульминационную сцену фильма - взятие сотрудниками опергруппы опасной банды некоего Соловьева - Алексей Герман решает вопреки расхожим клише детективного «ретро». Бандиты в кадре далеки от образов лощеных интеллектуалов, а их подружки-отнюдь не шикарные дивы из варьете. Перед нами - грязные, заросшие щетиной нелюди с почти животными инстинктами. Их убогие «малины» ничем не напоминают нам эффектные «киношные» притоны. Камера оператора Валерия Федосова проводит нас по обшарпанным коридорам какого-то барака. Рваные полушубки, затасканные шинели, грязные платки, озлобленные взгляды испитых лиц. Лапшин с криком «По коням!» врывается в одну из комнат. Выстрел, звон разбитого стекла. Лихорадочная потасовка. Но мы уже знаем, что у Лапшина начался приступ тяжелой болезни, когда он может полностью потерять контроль над собой, а клич «По коням!», застрявший в памяти еще с гражданской - первый предвестник кризиса... Только что Соловьев безжалостно и хладнокровно всадил нож в живот журналиста, неловко пытавшегося по мешать бандиту уйти. И вот он окружен. Все происходит жестоко и буднично. Где-то на пустыре, около смрадного сарая с полусгнившими досками, без напряженной музыки и головокружительных трюков. Совсем не в духе хрестоматийных для многих детективов сцен в ресторанах, где рослые красавцы после перестрелки и рукопашной с сотрудниками милиции, свирепо тараща глаза, выбрасываются из окна второго этажа, чтобы скрыться в полутьме проходных дворов. И когда из-за сарая с жалобным криком: «Дяденька, не стреляй, дяденька!» выбегает одетый в рваный полушубок Соловьев и отбрасывает в сторону оружие, на какой-то миг он может показаться жалким, даже несчастным человечишкой, по слабоумию ставшим преступником. Но когда вспоминаешь в многочисленных жертвах бандита, застывшие трупы которых находили сотрудники угрозыска, в сердце остается лишь брезгливость, ощущение мерзости. И пуля, которую посылает Лапшин без всякого предупреждения в поднявшего руки Соловьева, не воспринимается актом личной мести за друга. Что ждет главных героев фильма завтра? Быть может, судьба отмерила им всего два -три года. А может быть, им суждено погибнуть в июне сорок первого. Они об этом пока ничего не знают. Не знаем и мы. Но ощущаем тревожную атмосферу временя - в рефренах проходов духовых оркестров с военными маршами. Мы переносимся через десятилетия, чтобы еще раз вглядеться в Лицо поколения, на долю которого выпали самые суровые испытания... (Александр Федоров, 1985)
Историю советского киноискусства можно прочесть как историю сопротивлению сюжету, извне предписываемому герою («Когда страна прикажет быть героем, у нас героем становится любой»). Главным оружием кино в этой борьбе были подробности, исподволь размывавшие сюжет, переводившие его в другое русло. История завершилась полной и безоговорочной победой кино над сюжетом в фильме Алексея Германа, поставленном по лучшей повести его отца - талантливого и очень популярного советского беллетриста Юрия Германа «Лапшин» (1937). После выхода фильма кто-то упрекнул режиссера в том, что там, где обычно даются три подробности, он дает тридцать три. На самом деле упрек оказался лучшим определением поэтики А. Германа. Мастером подробности был и его отец - это он описал в повести отважного человека, безусловного героя (прототипом его явился друг писателя - знаменитый начальник Ленинградского угрозыска в 30-40-е годы Иван Бодунов), поместив его в течение будней, не очень уютный быт, дав безответную любовь к актрисе, которая в свою очередь любит его друга - недавно овдовевшего писателя. И герой оказался притом еще и человеком, вызывавшим живую человеческую симпатию у учителя, за счет этих «трех подробностей» в первую очередь. В фильме количество подробностей, увеличенное до тридцати трех, переходит в качество. Чем больше бытовых примет возникает на экране, чем с большей тщательностью они фиксируются, тем явственней обнаруживается, что быт в его привычном понимании тут отсутствует. Или, точнее, возникает «минус-быт», совершенно не отличающийся от быта военного Ташкента в предыдущем фильме Германа «Двадцать дней без войны». И там, и здесь мир, живет войной; разница лишь в том, что там война уже идет, здесь - к ней готовятся, ее ожидают. Впрочем, для главного героя фильма - начальника опергруппы провинциального угрозыска Лапшина она никогда и не заканчивалась. Люди приспособились к жизни, раз и навсегда переведенной на военное положение. Все в этом быте - временное, мир совершенно не обжит, квартиры напоминают нечто среднее между общежитием и казармой - будь то окраинные бараки-«малины» или квартира, где обитает герой вместе с товарищами по работе. Быт перенесен, как всегда в будущее, и быт, разумеется, идеальный. «Ничего, вычистим землю, посадим сад и сами еще успеем погулять в этом саду», - как заклинание то и дело повторяет герой и уезжает по голой мерзлой земле, напрочь схваченной льдом. Герои живут будущим, ибо настоящего не замечают - оно для них не существует. Грядущий идеал - куда большая реальность. Потому они счастливы. Счастливы блаженным своим неведением, счастливы абсолютным незнанием себя, которое заботливо взращивают. И только в странных приступах, очевидно, еще с гражданской мучающих Лапшина, прорывается тщательно загоняемое вглубь, и, очнувшись, герой с удивлением рассматривает подушку, мокрую от слез... Отсюда щемящая интонация фильма: люди в нем живут не человеческой жизнью, не зная об этом, и испытывают боль, не догадываясь, чем она вызвана. Поэтика Германа - это поэтика моментального снимка, разглядываемого эпоху спустя, когда на первый план выходит все то, что в момент запечатления совершенно не замечалось, не учитывалось, не принималось в расчет. Не случайно для каждого фильма он отбирал прежде всего сотни фотографий, преимущественно бытовых, технических - только не официальных. С прошествием времени всякий предмет утрачивает свой типовой облик и становится уникальным, ибо представительствует от имени эпохи в единственном числе. Это прошлое, переживаемое в настоящий момент, когда мозаичные осколки памяти, собранные воедино, дают вспышку - мгновенно возникающий образ целого. Когда готовый фильм был запрещен к выпуску, режиссер сделал несколько сокращений и доснял цветной пролог и эпилог, введя в него Рассказчика. Тем самым прояснилась суть поэтики, направление взгляда. Или точнее - обмен взглядами. Из настоящего в прошлое, из прошлого - в вечность, протагонистом которой в фильме является камера. На мире, на героях лежит печать обреченности. Она возникает уже от взгляда на этот мир из другой эпохи. Но в фильме Германа герои обречены еще и потому, что они полностью подчинились законам эпохи. Тут и обнаруживается, что они - типичные герои советского кино - вовсе не Герои, но жертвы, полностью принадлежащие времени и безжалостно им уносимые. А фильм Алексея Германа - осознание этого и потому прощание с героем и его кинематографом в целом. Советская элегия. («Энциклопедия кино», 2010)
Шедевр авторского кинематографа. Фильм Алексея Германа, формально сделанный в жанре криминальной драмы, по существу представляет собой лирическую кинопоэму из советской жизни середины 30-х годов. Сюжет картины, в основе которой лежат повести отца режиссера, писателя Юрия Германа, совсем прост. В коммуналке заштатного городишки обитают сотрудники местного УГРО - несколько сорокалетних мужчин и 10-летний мальчик, глазами которого в основном и показаны все происходящие события. Закадровый комментарий тоже принадлежит мальчику, но 'подросшему' лет на сорок. Таким образом, все происходящее на экране дано как бы ретроспективой. А происходят обычные будни строителей коммунизма, живущих кое-как, решительно не приспособленных ни к чему, кроме своей ужасной работы, влюбляющихся безнадежно, обреченных на одиночество. Это своего рода мужской монастырь, в котором время от времени появляются женщины, но как-то случайно, бессмысленно и безнадежно. Главный герой фильма - суровый и одновременно беззащитный начальник УГРО, командир еще со времен гражданской войны, отлавливает рецидивиста, убивающего налево-направо за просто так. Этому делу посвящена вся его сознательная жизнь. Бессознательная же стремится к нормальному уюту, женскому теплу, семье. Однако последнее для него априори недостижимо. Актриса местного театра, вроде бы поощряя его неуклюжие ухаживания, в решительный момент отказывает поклоннику, сообщая, что любит другого. Другой - неожиданно овдовевший журналист, типичный советский интеллигент, склонный к суициду и в финале фильма пострадавший в стычке розыскников с матерым уголовником, однако, актрисе взаимностью не отвечает. В конце концов герои разъезжаются по стране, оставляя второстепенных персонажей и рассказчика в том числе в этой глухой провинции, всколыхнувшейся было от революционных потрясений, но в сущности остающейся тем же, чем и была от века - медвежьим уездным углом. Фильм потрясает, конечно, не сюжетом, хотя драматургия очень точна и, что называется, берет за душу. Потрясает фильм оригинальностью, решительной непохожестью ни на кого и ни на что. Герман, кажется, ни одним кадром не процитировал ни предшественников, ни современников. Он создал свой кинематограф, свой видеоряд, так, как Отец небесный создал некогда бытие. Экран демонстрирует хаотическое, броуновское движение людей, вещей, растений, животных, воздуха, наконец эпохи. Подростковой эпохи, увиденной глазами ребенка. Динамики доносят едва ли не такое же броуновское словесное движение, где обязательные реплики с трудом вычленяются из необязательных слов, междометий, посвистов, бормотаний, пения, прочих звуков. 'Послушники' коммунального монастыря занимаются своими делами, спорят, поют хором, играют в шахматы, демонстрируют эстрадные номера, одеваются и раздеваются, словом живут. Вроде бы живут. Потому что, на самом-то деле, какая же эта жизнь!.. Это существование между рабочими днями. Но 'Лапшин' - только начало новой стилистики. До логического завершения она будет доведена в ленте 'Хрусталев, машину!', когда с одного-двух просмотров что-нибудь понять вообще будет невозможно. Только почувствовать, при условии достаточно сильно развитых у зрителя органов чувств и в придачу немалого знания истории отечества и истории культуры. Об актерах. Чтобы вообще достойно сыграть в любой картине Германа, необходимы исполнители экстра-класса. Ведь его стилистика не допускает никакого открытого профессионализма, никакой театральщины, вообще - игры. Андрей Болтнев, Александр Филиппенко, Алексей Жарков, Нина Русланова сыграли в этом фильме вероятно, свои лучшие роли. Андрей Миронов - нет. Он как раз слишком узнаваем, слишком легок, что ли, для этой стилистики. Хотя и хорош, спору нет, но... не настоящий какой-то. Или, быть может, так и замышлялось: просто - человек не отсюда, не из этого города, не из этого общества, не из этого фильма. Не вписывается в броуновское движение. В авторском кинематографе может быть только один лидер, командир, деспот. Режиссер. В кинематографе, созданном Алексеем Германом, - тем более. И все же именно такое кино, как ни странно, открывает нам новых Актеров с большой буквы, или открывает у известных уже неожиданные глубины, что и демонстрирует создатель 'Лапшина' на примерах Болтнева и Руслановой. Авторский кинематограф, как правило, обречен на кассовый неуспех. Германовское кино в этом смысле - случай типичный, или даже образцовый. Причин две: первая заключается в том, что смотреть картины режиссера лучше всего не в кино, а если в кино - то в одиночку, ибо Алексей Георгиевич совершенно не умеет и не хочет разговаривать с многими людьми, с массой зрителей, но признает только одну форму диалога - тет-а-тет, другая же причина опять-таки в первозданной новизне предъявляемого мира. Зрителю его надо осваивать и осваиваться в этом мире самому. Чтобы оценить личность создателя - Германа, зрителю самому надо быть или стать личностью. Поэтому его 'Лапшину' потребовалось полтора десятка лет, чтобы стать русской классикой (доросли, посмотрели и не один раз пересмотрели на видео). Сколько-то потребуется 'Хрусталеву'? (Виктор Распопин)
«Это мое объяснение, мое объяснение в любви к людям, рядом с которыми прошло мое детство в пяти минутах ходьбы отсюда и... полвека тому назад». Казалось бы, проникнутая светлой грустью реплика уже немолодого повествователя не должна была оставить и тени сомнения относительно истинных намерений авторов, тем более что сам факт обращения режиссера к отчасти автобиографическим довоенным повестям своего отца Юрия Германа1 достаточно красноречив. Общеизвестна непростая судьба фильма, завершенного в 1982-м и вышедшего на экраны2 спустя четыре года, - но это как раз не вызывает удивления в свете отнюдь не идеологической, а эстетической смелости кинематографистов, долго смущавшей и... срочно потребовавшей изобретения нового термина («гиперреализм»). Другое дело, что, на мой взгляд, категорически неприемлемы попытки выдать «Моего друга Ивана Лапшина» за произведение, раскрывающее «всю правду о страшной эпохе», что для набиравших влияние пропагандистов «перестройки» было равносильно огульному очернению собственной истории. По свидетельству Любови Аркус и Евгения Марголита, посетителей кинофестиваля в Локарно, где лента в итоге получила «утешительный» приз Эрнеста Артарии, больше всего удручала неясность того, в чем же здесь, собственно, кроется крамола? Такое признание куда честнее, чем позиция ряда отечественных киноведов и публицистов, выискивающих «антитоталитарный» подтекст, упорно игнорируя очевидное. Если угодно, «третья с половиной» постановка Алексея Германа во многих принципиальных отношениях антагонистична не только «Покаянию» Тенгиза Абуладзе, снятому с «полки» параллельно, но прежде всего - его же опусу «Хрусталев, машину!» (1998). Вникнем в суть другой фразы, оброненной почти незримым рассказчиком: «Наша тогдашняя жизнь, возможно, покажется вам бедной. Улицы тогдашнего нашего Унчанска, в большинстве кривые и деревянные, продувались ледяными ветрами. При этом мы все умели, все могли, все нам было по плечу. Все вместе, все вместе, понимаете?» Классическая антитеза «быт-бытие», над которой, похоже, не хотелось задумываться (не говоря уже о том, чтобы предпочесть вторую из категорий!) гражданам, соблазненным западным «потребительским раем». Да, служебная квартира порой виделась перенаселенной, артистам местного театра не хватало дров, а Адашовой приходилось мириться со строгими правилами общежития. Но... надо постараться, чтобы не заметить за подобными проявлениями советского аскетизма, отчасти обусловленного объективными причинами, но и в значительной степени - выбиравшегося людьми вполне сознательно, куда более важных устремлений. «... все нам было по плечу». Черная кожаная куртка Лапшина по ассоциации заставляет вспомнить овеянные легендами образы революционных комиссаров, чьей памяти он (как и, скажем, Глеб Жеглов из МУРа), безусловно, достоин, и Иван лихо взбирается по приставной лестнице в надежде покорить сердце Наташи. Да и по точным, сдержанным жестам, по озвучиваемым мыслям, по совершаемым без дутого пафоса поступкам несложно (подобно Ханину) прийти к выводу, что начальник опергруппы, невзирая на душевную травму, оставленную гражданской войной, - выкован из железа. Причем самое ценное в наблюдениях отца и сына Германов заключается в том, что Иван Михайлович все-таки не выведен исключительной, резко выделяющейся на общем фоне личностью, являясь, скорее, типичным представителем того общества, в котором живет. «Все вместе, все вместе, понимаете?» Если довести мотив до предела, Лапшин - наш ответ на ницшеанский тезис о неизбежном явлении сверхчеловека, претворенный нацистами в действительность в самом примитивном и мерзком варианте. Приметы надвигающейся катастрофы (от номера самодеятельности в прологе и обрывков застольных разговоров до марша, исполняемого военным оркестром в финальных кадрах) неотвратимо подводят к раздумьям о том, чем мы обязаны людям, настойчиво повторявшим: «Ничего, вычистим землю, посадим сад и сами еще успеем погулять в том саду». Быт как таковой не может (во всяком случае не должен) служить целью, но вместе с тем - является совокупностью объективных, пусть и косвенных, свидетельств глубинных, бытийных устремленностей и переживаний людей. Порождением культуры, зашифрованными знаками Времени. В данном контексте избитая шутка о том, что Герман дает тридцать три подробности быта там, где обычно ограничиваются тремя, приобретает новое звучание, раскрывая суть его эстетики. Издавна эксплуатируемые кинематографом разновидности интриги, детективная - поимка особо опасной банды - и любовная (в деликатности передачи пикантного мотива menage a trois советский режиссер, пожалуй, не уступит и французу Франсуа Трюффо в «Жюле и Джиме», 1962), намеренно уводятся на обочину повествования. Вытравливаются неисчислимыми мелкими подробностями, зарисовками, фрагментарными репликами, даже неожиданным и никак не мотивируемым появлением цвета. Вот и в развернутом «кульминационном» эпизоде с облавой на воровскую «малину», ранением Ханина и, наконец, ликвидацией Соловьева, режиссер «остраняет» события, предпочитая хичкоковскому саспенсу поток случайностей, неотъемлемых от самой Жизни, которую всего лишь тщетно пытается ухватить и структурировать человеческое сознание. «Хаотичные» (на поверку, конечно, хорошо продуманные) движения камеры не должны вводить в заблуждение: каждый элемент содержит в себе собственную историю, имеет самостоятельное значение. Будь то зеленый уголок, организованный3 пионерами, пытающимися подавить инстинкт хищника у лисы, или фигуры рядовых граждан, прихотливо выхватываемых объективом: крестьянки, поющей о Хазбулате удалом, старой женщины с младенцем, которую милиционер не пускает в дом, где ведется облава, не говоря уже о пойманных уголовниках (Катька «Наполеон» и Кашин). Плотность изображения не кажется избыточной, увеличенной искусственно, оставляя внимательному и чуткому зрителю возможность «развернуть» любую деталь в самодостаточную и не менее важную сущность. Думаю, уместно говорить о реализации художественного идеала великого Антона Павловича - вопреки резкой реплике Адашовой, не желающей причислять себя к пресловутым «чеховским барышням»... Авторская оценка: 10/10.
1 - Их адаптировал опытный кинодраматург Эдуард Володарский при участии (не отмеченном в титрах) самого Алексея. 2 - Собрав аудиторию в 1,5 миллионов зрителей, низкую даже в сравнении с другими германовскими работами. 3 - Под знаменитым лозунгом Мичурина «Мы не можем ждать милостей от природы. Взять их у нее - наша задача». (Евгений Нефедов, 2015)
17 августа 1986 года, на Международном кинофестивале в Локарно «Мой друг Иван Лапшин» Алексея Германа получает «Бронзового Леопарда». Фестиваль в Локарно - первый после майской кинореволюции в СССР крупный международный киносмотр. К этому времени уже ясно, что центральным сюжетом мирового киногода будет открытие материка «Неизвестное советское кино», и потому фестивальщики отчаянно воюют за право «первой ночи» в показах советских фильмов, а кинопресса предвкушает урожай сенсаций. Для успеха советского конкурсанта есть все предпосылки: Мой друг Иван Лапшин одним из последних пал жертвой советской цензуры и возрожден к жизни новым временем; автор фильма, Алексей Герман, пятидесятилетний режиссер, имя которого в СССР до недавнего времени перечисляли в обойме «молодых», известен как радикальный новатор и непримиримый нонконформист, и кажется, именно ему будет предназначена роль национального «гения», в обязательном порядке представительствующего на мировом киноолимпе от советской кинематографии. Словом, нет никаких сомнений в том, что мировая премьера Лапшина... должна стать событием. Но уже в первых публикациях о фильме проскальзывают нотки почтительного недоумения. По мнению критиков, новаторство режиссера заслуживает восхищения; изображение, звук, монтаж - все будто открыто заново и выше всяких похвал, однако... сюжет невнятен, диалоги и голос за кадром не проясняют действия, характеры персонажей, их чувства и поступки часто остаются за пределами понимания. Загроможденность кадра и фонограммы посторонними сюжету деталями, фигурами, репликами и шумами мешает следить за развитием действия, и смысл ускользает... Более всего фестивальных зрителей удручает то, что они никак не могут взять в толк главное: в чем же здесь, собственно, кроется крамола, послужившая причиной цензурного запрета? Восприятие фильмов Германа по ту сторону только что приоткрытого «железного занавеса» свидетельствует о том, что в реальности диалог двух миров будет вовсе не таким легким, а взаимопонимание отнюдь не таким скорым и всеобъемлющим, как это представлялось вначале. Именно здесь начинает сказываться изоляция, в которой страна существовала десятки лет, и, соответственно, необозримый, охватом во всю новейшую историю, отрыв отечественной культуры от мирового контекста. Голливуд, создавший и внедривший во всем мире универсальное эсперанто для внутреннего и внешнего хождения своих культурных ценностей, никогда и не пытался понимать «птичий язык» авторского кино - ни собственного, ни, тем более, заокеанского. Европа, зализывая раны Второй мировой войны, изживая рожденные ею комплексы, создала единое пространство «послевоенной» культуры, в котором выработаны были в конце концов общепонятные и во многом единые культурные коды. Из Советской России, Кощеева царства за семью морями и семью печатями, долетали отдельные весточки-фильмы: язык иных был близок и доступен без перевода. Даже в середине 1980-х гг. для большей части мирового киносообщества история советского кино начиналась и завершалась «оттепельным» кинематографом - вполне понятным в этой роли еще и потому, что кинематограф этот был во многом ориентирован на достижения западного модернизма, отдельные шедевры которого появились в СССР именно после ХХ съезда и произвели на молодых шестидесятников оглушительное впечатление. Кстати, в дальнейшем весь недолгий период послеперестроечного «русского бума» на Западе прошел под знаком «советских шестидесятых» - ретроспективы фильмов этого периода пользовались наибольшим успехом. Не только «полочные» фильмы или признанная классика, но и произведения второго, третьего ряда встречали понимание и часто восхищение: не то чтобы они были сделаны «под влиянием» итальянского неореализма, Ингмара Бергмана или Федерико Феллини, но даже кратковременное «включение» молодых кинематографистов в мировой контекст сделало язык их фильмов понятным без подстрочника. В новых и открываемых в 1980-е гг. фильмах все так же ожидают увидеть нечто подобное картинам Летят журавли (1957) и Баллада о солдате (1959), но только с антисоветской (антитоталитарной) начинкой. В случае с Лапшиным... такие ожидания не оправдываются нисколько - ведь еще Проверка на дорогах (1971), будучи в каком-то смысле вершиной эстетики 1960-х гг., одновременно являлась и ее завершением, и глобальным опровержением. Уже тогда Герман как бы отменил фонетику, лексику и синтаксис, которые сформировались в лучших образцах советского социального реализма - в Лапшине его авторская речь окончательно обретает качество высокого, практически непереводимого на иные языки, косноязычия. Награда фестиваля (четвертая по значению) Моему другу Ивану Лапшину выглядит призом скорее утешительным. И предназначается, по сути, не фильму, но именно его создателю - в качестве признания заслуг и дани уважения к его многотрудной судьбе в тоталитарный период. Судьба была воистину многотрудной, но парадоксальным образом именно то уникальное качество поэтики Германа, которое послужило причиной для гонений его картин в родном отечестве, привело также к неполному, затрудненному их пониманию западной аудиторией. Ведь именно потому картины его закрывали, что никакими поправками, перемонтажом, переозвучанием невозможно было вытравить неугодные смыслы, которыми, будто на молекулярном уровне, пропитана сама ткань кадров. Это «молекулярное» бытование немаркированных и впрямую не обозначенных смыслов делало фильмы Германа неисправимо-крамольными на Родине и некоммуникабельными за ее пределами. Не то чтобы язык германовского кинематографа сам по себе был недоступен европейской аудитории - его изощренная выразительность не могла не ощущаться: недаром Двадцать дней без войны (1976), копия которых во второй половине 1970-х гг. попала во Францию, были награждены престижной Премией им. Жоржа Садуля. Дело в другом. Западному человеку, предохраняемому от прямого и непосредственного воздействия перипетий истории, ее катаклизмов бронированной оболочкой частной жизни, недоступен сам предмет творчества Германа: тотальный - и катастрофический - историзм существования человека в России. То, что для советского искусства было одним из важнейших источников его пафоса - народ в целом и каждый отдельный его представитель как движущая сила исторического процесса - у Германа предстало тотальной же, непрерывно длящейся трагедией, выдержать которую можно лишь не осознавая ее, воспринимая как повседневную будничную реальность. Человек в России для Германа абсолютно беззащитен перед поворотами истории: ощущение его наготы на беспредельных промерзших пространствах, пронзаемых ветром, усиливается от фильма к фильму и достигнет своего апогея в нестерпимой буквализации Хрусталева... (1998). Уходя, уступая место следующей, предыдущая эпоха уносит с собой человека, не оставляя от него ничего - ни имени, ни лица, ни голоса. Очередной почвенный слой для истории - однородная масса, не более того. Конгениально фильму сформулировал в одном из телеинтервью сюжет Лапшина... сам режиссер: «Я снял фильм про то, как один милиционер влюбился в артистку, а эпоха их уже всех приговорила». Поэтому пейзаж - место действия - выглядит в фильмах Германа как приговор. И если можно усмотреть здесь протест, то никак не политический, а, так сказать, метафизический: нежелание смириться с тем, что ни-че-го не остается в памяти от ушедших поколений, от души живой. Построение германовских фильмов в некотором роде сродни принципу обратной перспективы в живописи: чем отдаленней план, тем крупней фигура. Лицо, вроде бы случайно, на мгновение попавшее в кадр, камера тут держит, кажется, целую вечность, желая во что бы то ни стало спасти от смертной тоски небытия, наползающей на мир этих фильмов. Как в Проверке..., где уже из-за финального затемнения с титром «Конец» все рвется надсадно ликующий вопль безвестного героя и праведника капитана Локоткова: «Давай, родненькие, давай!»... Расслышать его по-настоящему могут именно «родненькие», т. е. кровно связанные с жизнью этой страны и ее историей - потому нечуткие к искусству цензоры проявляли в свое время изумительную тонкость в понимании сложнейшего германовского киноязыка; у них могло не быть знаний и мировоззрения, но у каждого из них были свои подвалы подсознания, где в осколках и обломках хранилась невытравленная генетическая память об истории семьи и судьбах родителей (в России неизбежно хоть когда-нибудь, но попавших под колеса истории), а также звуки, запахи, калейдоскопы картинок и ощущений, оставшихся от собственного детства. Что не понимали они в Двадцати днях... и Лапшине..., то безошибочно и исчерпывающе подсказывали им мурашки по коже, идущие от узнавания. Самые эрудированные и благожелательные западные интеллектуалы оказываются менее проницательными и проницаемыми для эстетики Германа, поскольку именно здесь собственная память и пусть даже не отрефлексированный, но реальный исторический опыт перевешивают на чаше весов и художественную интуицию, и идейную солидарность, и представления о внутрикадровом монтаже. Но, как бы то ни было, именно тренированная интуиция позволяет иноземным знатокам кино осознать масштаб - не отдельных фильмов, но явления «кинематографа Германа» в целом. Уже здесь, в Локарно, закладывается модель будущего сюжета с восприятием Хрусталева... в конце 1990-х гг. (Любовь Аркус и Евгений Марголит)
Или «без», или «меж». Честно признаюсь, что совсем забыл за 33 года после того, как в первый и единственный раз увидел фильм «Мой друг Иван Лапшин», о наличии в нем сцены из спектакля «Пир во время чумы» (из пушкинского цикла «Маленькие трагедии») в исполнении артистов местного театра из провинциального города Унчанска. Причем начинается этот эпизод именно с произнесения слов «...и бездны мрачной на краю». А ведь еще до того, как наконец-то удалось пересмотреть ленту Алексея Германа, я заранее обдумывал название для будущей рецензии. И среди моих вариантов были такие: «На последнем дыхании» и «...и бездны мрачной на краю». Хотя в итоге я стал склоняться к совсем короткому: «без». И как раз с маленькой буквы. Потому что практически всегда у Германа присутствует на экране вот это странное состояние «без». Или же «меж». То есть можно говорить как о ситуации безвременья, так и о положении «межвременья». И ведь эти определения вполне применимы не только к 1935 году, когда происходит действие картины Германа, но и к рубежу 70-80-х годов, в период подготовки сценария (первоначальный вариант написан вообще в 1969 году!), запуска в производство под названием «Начальник опергруппы», съемок, законченных в 1982 году, трудной сдачи-пересдачи в Госкино и отправки на пресловутую полку. А уже в 1984 году была создана новая версия с досъемкой пары современных сцен для пролога и эпилога, с введением в ткань повествования о давно минувшем закадрового комментария выросшего мальчика-свидетеля событий, у которого теперь есть собственный внук. Казалось бы, в данном факте внесенных поправок (хотя более существенным оказалось изъятие двух поистине впечатляющих, по мнению тех, кто видел «Начальника опергруппы», эпизодов с припадками начальника угрозыска Ивана Лапшина, вызванными его контузией еще на гражданской войне) следовало усмотреть вынужденные уступки режиссера, у которого было на тот момент уже две запрещенных работы - ведь «Операция «С Новым годом» лежала на полке с 1971 года, а вышла только в 1986-м под названием «Проверка на дорогах». Однако принцип использования стороннего повествователя можно найти в других фильмах Алексея Германа. И это не просто рассказ «от автора» или же воспоминания очевидца, что призвано придать поведанной истории признак подлинности, а то и доверительности (кстати, это отражено в названии «Мой друг Иван Лапшин», которое точнее и глубже, чем вроде бы детективное заглавие «Начальник опергруппы»). Разумеется, девятилетний пацан никак не мог являться другом сорокалетнего Лапшина, чей день рождения как раз отмечается в самом начале ленты. Тут зафиксировано, скорее, авторское и зрительское отношение к личности начальника угрозыска, который внешне и по ряду поступков на своей работе должен показаться «железным человеком» (так его характеризует не без доли иронии заезжий журналист Ханин, в чьем образе, наверно, есть какие-то черты писателя Юрия Павловича Германа, который в середине 30-х годов, прежде чем написать повесть «Лапшин», дотошно изучал деятельность реального борца с преступностью, кого звали Иваном Бодуновым), хотя он, пожалуй, последний идеалист-романтик. И безответная любовь к актрисе Наташе Адашовой, которая, в свою очередь, безнадежно влюблена в Ханина - это выражение его тщательно скрываемых эмоций, прорывающихся лишь изредка, причем иногда в неуклюжей, немножко экстравагантной форме. В мире этой картины многие персонажи - как те, кто выдвигается на первый план (допустим, обитатели квартиры Лапшина, фактически превратившейся в коммуналку), так и случайно встретившиеся на пути, - словно состоят между собой в дружеских отношениях, порой переругиваются шутливо, подкалывают друг друга, но испытывают неподдельный интерес чуть ли не к каждому, кто попадает в орбиту их притяжения. И даже к криминальным элементам типа проститутки Катьки-Наполеон, которая якобы должна дать ценные советы для Адашовой, играющей подобную роль в спектакле по пьесе «Аристократы» Николая Погодина (потом мы сами увидим на сцене эту лакировочную агитку о перековывающихся заключенных на строительстве Беломорканала), первоначально проявляют определенное внимание: человек все-таки занимательный, пусть и опустившийся. Да и закоренелые преступники, на чьих руках кровь нескольких невинно убиенных, на первый взгляд предстают как обычные «дяденьки из народа». И душегуб Соловьев, поимкой которого занимается Лапшин, тоже выглядит жалким прохожим-недотепой, сумевшим обмануть Ханина и нанести ему удар ножом в живот. Но складывается парадоксальное впечатление, что между Ханиным и артистами местного театра, посвятившими свою жизнь искусству, литературе и чему-то возвышенному, а с другой стороны, начальником угрозыска, его сослуживцами, друзьями, знакомыми и вообще мимо проходящими, чье существование более приземленное и погруженное в быт, явно бедный и неухоженный, обнаруживается больше различий, нежели у последних - с деклассированными типами, которые пребывают совсем в жутких условиях и чуть ли не вынуждены криминализироваться все дальше и дальше. Иван Лапшин вместе с ближайшим и дальним окружением - будто прослойка между интеллигенцией и люмпен-уголовщиной. И неизбежно возникающий тревожный вопрос насчет использования представителями законных структур таких методов борьбы с преступностью, которые не всегда согласуются с буквой закона (не это ли потом приведет к общенациональному террору против обычных граждан?!), отступает назад по сравнению с более волнующей Алексея Германа дилеммой о соотношении искусства и действительности, что заметно практически во всех его работах. Способ своеобразного дистанцирования, отстранения от происходящего наряду со скрупулезным, граничащим с навязчивой манией, максимально достоверным воспроизведением среды и любых маломальских деталей быта, что позволило кое-кому определять кинематограф Германа как гиперреалистический, отнюдь не вступает в противоречие подчас с намеренным остранением ситуаций, представлением их почти в эксцентрическом, фантасмагорическом, сюрреалистическом, абсурдистском виде. И вопреки мнению тех, кто именно так интерпретирует поздние работы режиссера - «Хрусталев, машину!» и «Трудно быть Богом», создававшиеся мучительно и долго, в отличие от ранних фильмов, уже в ленте «Мой друг Иван Лапшин» присутствует гиперболизация реальности, а повествование строится словно мозаика, составленная из множества бессюжетных моментов. Это не только «ложный детектив» (жаль, что Алексей Герман не стал сам снимать картину по изумительному сценарию «Мой боевой расчет», который следовало бы считать словно продолжением «Лапшина» в первый послевоенный год), но и вообще не та действительность, привычная нам по подавляющему числу произведений искусства. Проще всего сказать, что Герман возвращает подлинной реальности ее естественную, натуральную, настоящую сущность, показывая без каких-либо прикрас, именно такой, как она есть. Но он не занимается скучной и унылой тавтологией действительности, а впечатляюще преобразует ее, образно преувеличивает, возводит в квадрат или даже в куб! Не побоюсь этого слова - вкусно и смачно преподносит на экране хаос человеческого бытия, поскольку и действие начинает в большей степени напоминать некое «броуновское движение». А фактически все продумано и рассчитано до мелочей, выверено до любой реплики и вроде бы лишнего жеста. И как раз подобная реальность, увиденная словно в телескоп и одновременно под микроскопом, сильнее всего пугает тех, кто не желает смотреть на окружающую жизнь через увеличительное стекло (да и в обычном зеркале они не хотели бы ее увидеть!). Зато обращают раздраженное внимание на внешнее, совершенно не замечая более колких и разящих ударов автора, выраженных не только в упомянутом цитировании пьес, но и в потрясающем использовании маршей, а также известной песни немецких антифашистов. Как вообще могла советская киноцензура пропустить такой крамольный текст, как слова так называемого «Гимна Коминтерна»: «Товарищи в тюрьмах, в застенках холодных, // Вы с нами, вы с нами, хоть нет вас в колоннах»?! Остается всего лишь два года до времен ежовщины, но уже начали постепенно избавляться от депутатов партийного съезда, которые посмели проголосовать за Кирова (его портрет неслучайно висит в комнате у Лапшина). И начальнику угрозыска в провинциальном городе Унчанске предстоит не заурядная переподготовка-перековка-рокировка, как об этом сказано в последней сцене из ретроспекции, а по всей вероятности - отправка в лагерь и расстрел. Знаменательно, что рассказчик в 1984 году ни единым словом не обмолвился о том, что стало потом с Лапшиным, его друзьями и сослуживцами. А вместо этого поделился с нами не без ноток сентиментальной иронии, что город теперь расстроился за рекой, и появилось больше трамвайных маршрутов, раньше-то были лишь первый и второй. Но вот трамваи в завтрашний день или в другие города, как в ранней короткометражке Юлия Файта по сценарию Геннадия Шпаликова, созданной в период оттепели, точно не ходят. И очередной марш в исполнении духового оркестра, поместившегося на открытой трамвайной платформе, все-таки звучит как реквием по всем сгинувшим в небытии. Пожалуй, это воспринимается сейчас куда очевиднее, чем в эпоху «катания вождей на катафалке», когда фильм «Начальник опергруппы» позволили достать с полки и чуть-чуть переделать, чтобы выпустить под названием «Мой друг Иван Лапшин» на экран уже в первый год объявленной перестройки, которая все равно кончилась ничем, точнее - развалом страны, которую так беззаветно любили Лапшин и его друзья, а она вовсе не отвечала им взаимностью. Оценка: 10/10. (Сергей Кудрявцев. «Иви.ру», 2018)
Картина Алексея Германа переполнена тревогой и напряжением. Она раскрывает трагедию несбывшихся ожиданий, пережитую достойными и честными людьми, крах их великих надежд, возникших в начале исторического эксперимента в России и обнаруживших позже свою иллюзорность. Действие происходит в 1935-1936 годах. Бывший участник Гражданской войны, а потом начальник отдела уголовного розыска в городе Унчанске Лапшин, журналист Ханин и актриса местного театра Адашова - им предоставлено в фильме, падая и ушибаясь, оценить достоинство того пути, по которому они якобы шествуют в светлое будущее. ...В супе плавает обрывок газеты, на котором сохранилось напечатанное: "...дуюсь". Журналист Ханин мгновенно соображает, что подобное словечко абсолютно несообразно принятой лексике, что первоначально было конечно же "радуюсь". И комментирует: "Это вроде бы мы все радуемся. Мы действительно радуемся, дорогие мои, верно?" Однако настроение и Ханина, и его друзей далеко от официозного пафоса. Впрочем, совсем еще недавно Ханин сам был энтузиастом, писал очерки о золотоискателях Алдана и летчиках, звал Лапшина в прекрасную даль: "Поедем бродяжничать. Я тебе таких людей покажу, деревья, города такие..." Но пока Ханин искал вдохновения в путешествиях, в Унчанске умерла его жена Лика: местные эскулапы не сумели или не постарались ее спасти. С диковатой улыбкой, будто стесняясь своего несчастья, сообщил Ханин друзьям страшную новость: "Шесть дней назад. Вот это цирк. От дифтерита Паралич сердца". Не в силах в одиночку переносить свое горе, Ханин переселился к Лапшину. Но нестерпимая мука не оставила его и здесь. Спрятавшись в убогой ванной, завешанной стираными портками, у корыта с киснущим грязным бельем Ханин попытался застрелиться, то приставляя дуло нагана к груди, то засовывая его в рот и тут же закашливаясь. В конце концов он нечаянно спустил курок - и пуля отлетела в сторону. Теперь Ханин хмуро иронизирует над чьим-то полуободранным "радуюсь", оторвавшимся от печатных площадей, испещренных доказательствами всеобщего счастья, и всплывшим в его тарелке. Однако Ханин не вполне еще растратил романтический пыл. Он уговорил Лапшина взять его с собой на милицейскую операцию, предвкушая захватывающе интересную встречу с "разбойниками". Но ничего подобного увидеть ему не довелось. На задворках унылого барака, среди развалившихся сараев бандит Соловьев, низкорослый мужичонка с плоским лицом, быстро и умело вспорол финкой Ханину живот. Прибежавший Лапшин приказал милиционерам обвязать Ханина поперек туловища каким-то тряпьем, чтобы не вылезли кишки, и отвез в больницу. Выпучив глаза, Ханин, лежавший в кузове грузовика, трясущегося на ухабах, силился что-то сказать Лапшину, но слышен был только нутряной, клокочущий стон. Выйдя из больницы, Ханин раздарил все вещи соседям и налегке уехал из Унчанска. Бежал из этого города, как от гиблого места. Андрей Миронов, играющий Ханина, выразительно передает на протяжении всей истории, от беды к беде, угасание в его изящном очкарике-интеллигенте былой восторженности. Ханин впадает то в глухую растерянность, то, как в финале, в нервозную болтливость. Он спешит в Москву, где редактор столичной газеты будет заказывать ему очередные жизнеутверждающие очерки. Впрочем, для их написания Ханин должен будет вернуть себе прежний душевный настрой. А это, судя по всему, вряд ли ему удастся. Слишком тускло, будто по обязанности, проборматывает он, прощаясь с Лапшиным на пристани, свое обычное: "Поедем бродяжничать. Я тебе таких людей покажу, деревья, города такие". Но существуют ли они на самом деле или это плод романтического самообмана? Ханин, кажется, и сам в них уже не верит, Лапшин же даже не удостаивает друга вразумительным ответом, а только отмахивается и скептически хмыкает. ...Актриса Наташа Адашова (Нина Русланова) всегда возбуждена больше, чем это можно объяснить видимыми причинами, часто и натужно хохочет. Втайне она страдает от жуткой бытовой неустроенности, одиночества и фатально ее преследующих неудач в театре. С великим старанием она работала, например, над ролью проститутки в спектакле "Аристократы" по пьесе Николая Погодина, в которой исправительно-трудовой лагерь на Беломорско-Балтийском канале изображался местом нравственного очищения и физического оздоровления заключенных. Наступил день премьеры. Словно живая статуя, воздев руки вверх, стоя при этом на тачке, в которой ее героиня якобы возит песок, выплывает Наташа на сценическом круге перед зрителями театра Вслед за ней в сходных позах - другие актрисы, тоже играющие прошедших "перековку" и пришедших потому в экстаз воровок и проституток. Но тут случается непредвиденное: тачка под Адашовой подламывается - и героиня неуклюже падает вниз, нарушая торжественность мизансцены. Фрагмент этот дан в фильме Германа без всякого нажима, хотя в нем, как и во многих других, скрыто иносказание. Дело, конечно, не в том, что полет творческой мысли режиссера унчанского театра пришел в несоответствие с жалким состоянием его реквизита А в противоестественности и непрочности самого, столь характерного для эпохи сочетания окрыленности души и принудительного труда, символом которого и является тачка. ...Начальник утро Иван Лапшин лучше, чем кто-либо другой, знает повадки настоящих уголовников и проституток, достоверно, судя по некоторым его репликам, представляет себе, что на самом деле творится в лагерях. Однако об "Аристократах" отзывается так: "Не все, конечно, жизненно, но вещь нужная". Нужно, оказывается ставить на сцене пьесу-фальшивку. Кому-то еще, несомненно, кажется, что нужно украшать облупленные стены унчанских учреждений флагами, оглашать улицы ревом труб, лязгом тарелок и боем барабанов, - а в городе Унчанске, по едкому замечанию Адашовой, "на каждого человека - по оркестру". Разъезжает даже специальный трамвай с платформой, на которой музыканты без устали наяривают марш "Коминтерн". Но все это, как и пьеса "Аристократы", постепенно открывается в фильме как что-то не вполне "жизненное". И чем менее оно "жизненно", тем более непонятно, зачем оно нужно. И тем сильнее томит Лапшина на экране неясная тоска. Роль эту играл Андрей Болтнев, самый облик которого непреложно свидетельствовал о нелегком жизненном опыте, беспримесной честности и мужестве. Рослый и крепкий начальник утро в колоном пальто и фуражке, обычно при оружии, мог бы выглядеть сурово, если бы не страдальческие его глаза. Даже в редкие мгновения, когда он улыбается, его не оставляет устоявшаяся грусть. Коротко и впечатляюще убеждает фильм в том, что Лапшин - могучий профессионал в своем деле. Так молниеносны его реакции, так слаженно работает его оперативная группа, с которой он врывается в барак, где притаилась "малина". Моментально Лапшин вытряхивает необходимые сведения из молчащего, пытающегося схитрить мужика, безошибочно находит единственно нужную среди других бесчисленных дверей, вытаскивает бандитов - в исподнем, отстреливающихся - из путаницы сбившихся, грязных постелей в сумрачный коридор. Сразу же после выхода фильма на экран критика отметила, что Герман снял "странный детектив". Точнее было бы сказать, вовсе не детектив. Хотя история о том, как уголовный розыск обезвредил банду Соловьева, и прошивает сюжет, действия Лапшина, которые должны были двигать его развитие, почти не показаны, о них лишь кратко сообщено голосом закадрового рассказчика. Соответственно отсутствует сколько-нибудь разработанная игра отношений между следователем и преступником, ни у Лапшина, ни даже у авторов фильма нет ни малейшего интереса к психологии убийц. ("Какая тут психология? Душегубы", - заявляет Лапшин.) Соловьева, сумевшего сбежать из барака и успевшего ранить Ханина, зритель едва успевает разглядеть, перед тем как Лапшин его конечно же приканчивает снайперским выстрелом Но фильм на этом не заканчивается, а сюжет сохраняет напряженность, потому что в драме, которую переживает Лапшин, его главным антагонистом является не только Соловьев. Лапшину противостоит куда более широкое и при этом безличностное начало, в которое лишенный индивидуальности Соловьев входит всего лишь одним из слагаемых, причем единственным, с которым герой может справиться. Все же остальное оказывается для Лапшина неодолимым. Оно властно заявляет о себе каждой подробностью человеческого бытия. Тесной ли квартирой Лапшина с окнами без штор, заставленной железными кроватями, где ютится мужская коммуна, - эти люди неразлучны на работе и дома, ночуют рядом, обедают вскладчину, терпят ворчание старухи Патрикеевны, бдительно следящей за тем, чтобы кто-нибудь не положил себе в чай неоплаченную ложку сахару. Тоскливыми ли унчанскими улицами с осевшими в землю, нищими от века домишками. Обшарпанными ли стенами утро, где Лапшин терпеливо изобличает какую-нибудь Катьку по кличке Наполеон, которая признает, что стибрила туфли-лодочки, но пытается скрыть, что прихватила еще и отрез сукна, за который-то потом ее и отправят в лагерь. Даже служители Мельпомены в Унчанске живут скудно и мерзнут. Когда же Лапшин изыскивает для них машину драгоценных дров и подгоняет ее к театру, в его коридорах моментально начинается тихая склока: кому дрова положены, кому - "фигушки-фигушки", а кому - "распределяют пусть теперь строго через ячейку". Вряд ли Лапшин воспринимал когда-нибудь всерьез возбужденный лепет Ханина, якобы уже узревшего где-то необыкновенных людей среди волшебных деревьев. Но сам вопреки всему упорно повторяет сходную присказку - заклинание на будущее: "Ничего. Вычистим землю, посадим сад. И еще сами успеем в том саду погулять". Имя Маяковского возникает в фильме значимо, как содержательный намек зрителю, хотя звучит оно как будто ненароком: Ханин появляется в кадре в конце какого-то заканчивающегося разговора, чтобы заявить, что почитает поэта и отметает всяческие домыслы по поводу его самоубийства. В декларациях Ханина и Лапшина зритель фильма легко угадывает перефразированные строки: "Я знаю - город будет, я знаю - саду цвесть, когда такие люди в стране советской есть". С судьбой Маяковского отдаленно ассоциируется и внутренняя эволюция, пережитая Ханиным, а потом - Лапшиным, чья вера в "сад", - а это мифологический образ земного рая, населенного безгрешными и счастливыми людьми, или, на языке политических категорий, "коммунизма", - постепенно слабеет и перестает составлять смысл жизни. Но это происходит не сразу. Стоит поначалу Занадворову - соседу и коллеге Лапшина - усомниться в скором цветении "сада", как Лапшин его немедленно пресекает: "Ты эти разговоры оставь!" Хочется Лапшину ощутить духоподъемность переживаемого исторического момента, сполна проникнуться величием поступательного движения общества к заветной цели. Но не прививается патетика к той реальности, которую видят приметливые и честные глаза Лапшина. Коммунистическая идея зависает в воздухе над бедным и некормленым уголком России, как голая, слепящая лампочка над головой Лапшина в его казенном жилище. Есть еще одна сила, которая ставит под сомнение фанатичную преданность Лапшина сверхличностной идее и связанную с ней необходимость обретаться в аскетически-казарменном положении. "Заводы, вставайте! Шеренги смыкайте!" - пел Лапшин с друзьями даже на вечеринке по случаю его сорокалетия. Еще в начале фильма, еще убежденный в том, что исторический закон сулит лучезарное будущее после изнурительной борьбы. Однако, судя по многим приметам, совершенно замечательная жизнь в Унчанске была и есть и за нее совершенно не нужно бороться, выстраиваясь в шеренги. Хотя бы потому, что существует она как раз совершенно отдельно от шеренг и коммун. Тысячью манящих и словно бы случайных промельков дает она о себе знать на втором и третьем планах основного действия. Изображение с "зернами" и царапинами, то блекло-цветное, то черно-белое или вирированное в желтоватые тона, создает впечатление документа давнего времени. Иллюзию достоверности оператор Валерий Федосов и режиссер Алексей Герман усиливают и тем, что стилизуют строение многих эпизодов под репортаж: якобы авторы снимают интересующее их событие, а какие-то люди, не имеющие к нему никакого отношения, нечаянно "влезают в кадр" с собственными действиями и разговорами, чтобы так же непредсказуемо и пропасть из поля зрения объектива. Конечно, каждый из "непредусмотренных" микросюжетов заранее придуман авторами и составляет необходимый компонент кинообраза именно в той сцене, в какой возникает. Поэтому на редкость многолюдный и насыщенный несходными движениями и голосами фильм не теряет целостности. Но если бы можно было вычленить все эти "случайности" из его течения, составилась бы антология миниатюр, рисующих трогательно-чистые душевные проявления обывателей города Унчанска. Во множестве этих миниатюр и создается образ естественной, "низовой" жизни, которая, по трактовке авторов, оставалась в показываемую эпоху единственно созидательной, потому что сохраняла и передавала по наследству традиционную мораль и человечность. Вот какая-то парочка выясняет отношения ("Не мучай меня! Я сам себя мучаю!"). Молодая женщина терпеливо, не позволяя себе раздражаться, повторяет и повторяет по телефону простейшие объяснения состарившейся и сделавшейся непонятливой матери. Некий папаша проникновенно внушает маленькому сыну, что нельзя грубить бабушке. Девушка, прощаясь, машет издалека тете Груне, а та с непередаваемой нежностью в голосе кричит в ответ: "Верочка! Цветик мой!" Скромно одетая дама выгуливает собаку и застенчиво ею хвастается: назвали щенка Каплей, а вымахала смотрите какая большая псина! Крестьянка, проезжая на телеге, вдруг без особых причин, а просто от ощущения полноты бытия, запечатленного на ее миловидном, круглом лице, запевает: "Хазбулат удало-о-ой!" И так далее и так далее. Они милосердны к старшим, ласковы с младшими и любят друг друга. В этой-то интимной, частной жизни можно быть вполне счастливым, не дожидаясь формирования небывалых в истории человечества общественных отношений. А если счастья нет, то никаким волевым порывом, ни по какому, заранее сочиненному кабинетными мудрецами плану его не добьешься. Было бы, например, правильно, если бы Адашова вышла замуж за Лапшина, ответила бы на его любовь. Она и сама это понимает ("А как было бы хорошо, Ваня! Я тоже одинокая!"). Но Наташа давно и безответно любит Ханина. А Ханин любит Лику и, овдовев, продолжает жить этим чувством. Все трое по ходу сюжета сделались несчастными, а исправить ничего нельзя. Совершенно бессильны в этом случае и газеты, испещренные словом "радуюсь", и медные трубы, ревущие марш "Коминтерн". Лапшин кружится в тесной комнатушке среди железных кроватей, бессмысленно проходит на кухню, тупо рассматривает таз с кипящим бельем Засовывает вдруг решительно в клокочущий кипяток руку и держит ее там. Пытается одним ожогом вылечить другой. Тщетно. Сердечная мука остается, она обостряет зрение, побуждает заново пересмотреть то, что казалось нормой. Не зря Ханин стеснялся говорить с Лапшиным о своем горе, не позволял себе выплакаться. Не зря и Лапшин ни словом никому не обмолвился о своих терзаниях. Не принято это у них. Фильм Германа не детектив, но и не психологическая драма. Хотя зрителю, конечно, и дано знать о переживаниях героев, друг от друга они их скрывают. Это персонажи микросюжетов - "случайные" люди в кадре - могут откровенничать, делиться тем, что их радует или тяготит, искать взаимного утешения. Но не Лапшин. Потому что душевные проявления - это личное, а "личное должно быть подчинено общественному". Личное - спонтанно, зыбко, своевольно, не поддается регламентации и определяется категорией "стихийное", которому строители нового мира противопоставляют "сознательное". Все эти прописи революционной морали Лапшин, конечно, вслух не выговаривает, он ими живет, точнее, жил, полагая нормой, пока не открылась их выморочность. Не обнаружилось, например, что никак не организованные, стихийные привязанности могут быть вопреки всякой логике прочными. А товарищество тех, кто воспевает стройные "сомкнутые шеренги", - мнимым. С особой ясностью выражен этот контраст в последних сценах фильма. Лапшин и Адашова прощаются с Ханиным на пристани. Наташа крепится, пробует шутить, а потом, не выдержав, повисает у Ханина на шее и, зная, что делает это напрасно, все же горестно выкрикивает, что он должен взять ее с собой, иначе она умрет. Вернувшись домой, Лапшин сообщает товарищам, что уезжает на курсы по переподготовке. Ждет от них хоть какого-нибудь, хоть малейшего отклика, поглядывает в их сторону. Ведь сейчас он здесь, а завтра его с ними не будет. Но они даже голов не поднимают от шахматной доски, а только равнодушно цедят то ли бессмысленное, то ли зловеще-пророческое: "Переподготовка, подковка, перековка... Рокировка". Никто в этой коммуне никому не нужен и не интересен. Выпадет человек из сплоченного коллектива - "отряд не заметит потери бойца". Или вздохнет облегченно. А то и осудит пропавшего. На пороге - 1937 год. На лице Лапшина - это финальный кадр - растерянность, весь он как-то опустел и поблек Видно, то, что составляло смысл его жизни, истаяло, утратилось. Вряд ли когда-нибудь он станет уверять себя и других, что успеет "в том саду погулять". "Мой друг Иван Лапшин" не детектив, не психологическая драма, а драма философская. О вере в идеал, потребовавшей столь напряженного и самозабвенного себе служения, что обескровилась и обессмыслилась сама жизнь верующего. И о трагизме наступившего вслед безверия. (Лилия Маматова, «Русское кино»)
Близкое прошлое. Этот фильм я смотрела несколько раз, и всякий раз после пролога, когда шел эпизод дня рождения Лапшина, мне казалось, что формат экрана тесен, что еще немножко - персонажи из кадра попадут прямо в зрительный зал и прошлое сомкнется с настоящим. Так, собственно, и происходит. Хотя персонажи, конечно же, остаются в кадре. Но чувство близости к героям картины, близости поначалу пространственной, а потом уже и душевной, иллюзия собственного присутствия в реальности полувековой давности, - это и есть преодоление времени. Не сказать, что подобный эффект получился непреднамеренно, сам собой, помимо авторской воли. Автор на него рассчитывал. И даже подсказал нам шифр хронотопа картины, вложив его в уста Рассказчика, чей голос поясняет в прологе: «Это мое объяснение в любви к людям, рядом с которыми прошло мое детство. В пяти минутах ходьбы отсюда 50 лет тому назад». Режиссер Алексей Герман задался целью воссоздать образы персонажей нашей ближней истории - ее безвестных героев, чьи имена не записаны на скрижалях, хотя именно такие, как они, рядовые партии, и делали в 30-е годы историческую работу, выпавшую на долю «поколения победителей» - большевиков призыва Октябрьской революции и их младших современников. Мы видим этих людей сквозь призму памяти Рассказчика, чье внутреннее «я» воплотилось в чуть усталом и чуть ностальгическом баритоне, время от времени звучащем за кадром. Но голос - это не все. И не главное. Главное в том, как присутствие Рассказчика отразилось на художественной структуре фильма. Прошлое для Рассказчика - не канувшее в Лету невозвратное время, где навсегда осталось его детство и молодость отцов, оно - «в пяти минутах ходьбы отсюда». Автору тоже рукой подать из 80-х в 30-е, пусть он там и не жил - в отличие от Рассказчика. Вот ключ к разгадке исторической концепции фильма и его поэтики - и то и другое вырастает из авторского ощущения истории как диалектики непрерывного потока причин и следствий. Такое отношение к историческому процессу оборачивается эффектом зрительского вживания, втягивания в условное время экрана, словно и нет полувековой дистанции, разделяющей нас и героев фильма. Впрочем, не совсем это точно, дистанция есть, но она как бы свернута в исторический опыт каждого из нас. Кстати: расчет на исторический опыт зрителя - тот порог трудности восприятия картины, о который можно споткнуться. Зритель, не приученный или не умеющий интеллектуально включаться в кинозале, пожалуй что, увидит в «Иване Лапшине» всего лишь детектив про захват банды какого-то Соловьева, детектив довольно затянутый, то и дело отвлекающийся на побочные сюжеты, не связанные с основным действием, да к тому же еще и раздражающий плохим качеством съемки. Кадры в основном затемненные, изображение слишком контрастное, будто на передержанной фотографии, о пленке и говорить нечего - в глазах рябит от «зерна», царапин, блесток... Возможно, я сгущаю краски, представляя себе, как может отреагировать на «Лапшина» зритель, не понимающий современного киноязыка. К счастью, у нас нет недостатка в зрителях, которые этим языком отлично владеют. Они сумеют понять усилия, предпринятые постановщиками с целью реставрации времени. Собственно, ничего технически нового тут и нет. Вирированная пленка, предварительно обработанная так, чтобы изображение выглядело чуть потускневшим, словно на нем отложилась патина времени, - такое уже было. Вспомните хотя бы «Пять вечеров». Не новость и короткофокусный объектив. Короче говоря, перед нами испытанный арсенал ретро-стиля. Только использован он с иной целью, можно сказать, диаметрально противоположной. Ретро - ностальгия по прошлому, идеализация прошлого, которое предстает как субстрат эмоциональной памяти, лишенной исторических координат. Не так у Германа. Время и быт реставрированы не для того, чтобы умилиться никелированным кроватям с шишечками, этажеркам и маршам - излюбленному музыкальному ритму той поры. У режиссера задача аналитическая: воссоздать быт людей, которые были выше быта. По фильмам 30-х годов не так-то просто представить себе картину тогдашнего быта на уровне отдельно взятой индивидуальности, какого бы ранга она ни была. Это сегодня мы стали такие умные, что понимаем - бытие и быт две стороны одной медали. Это сегодня возможен фильм про частную жизнь крупного руководителя. А тогда быта, частной жизни стеснялись: это была не тема для искусства, занятого проблемами «пограндиознее онегинской любви». Быт был синонимом мещанства. Кинематограф тогда интересовался прежде всего духовной реальностью эпохи и трактовал ее в формах эпических, надбытовых. Эмпирическая действительность, естественно, попадала в кадр, появлялись и фильмы в жанре бытовой драмы, но в общей картине кинопроцесса это были детали настолько незначительные, что отдельного интереса не представляли. Такое было время, таков был его «социальный заказ». Зато кинематограф 30-х взял на себя задачу, которую обычно оставляют будущему: воздвиг памятник своему Времени, создав его монументальный образ в целой обойме знаменитых картин. Понадобился солидный исторический срок, чтобы созрело другое сознание, другая потребность: глубоко понять диалектику взаимосвязей личности и массы, личного и общественного, развоплотить монументальный образ Времени на отдельные характеристики. Если хотите, заземлить этот образ. Снять избыточный пафос, чтобы увидеть прошлое изнутри. Экран 30-х с энтузиазмом показывал, чем жили современники. Фильм «Мой друг Иван Лапшин» показал, как они жили. По тесной квартирке с окнами без гардин, где живут начальник угрозыска Лапшин и два его сотрудника, один с сыном девяти лет, шастает, ворча, домработница Патрикеевна - домашний деспот, неусыпно следящий за количеством потребления сахара на душу населения. Нет, перед нами не классическая коммуналка, навсегда связанная в нашей памяти с мифологизированным миром близкого прошлого, когда все жили хуже и все были лучше. Тут, в фильме, другая модель социалистического быта - коммуна. Жили тесно не только из расчета квадратных метров на человека. Тесно в смысле сплоченно. Была потребность всегда быть вместе - на работе и дома. Рассказчик объясняет: «Все вместе, все вместе... Понимаете... Новый пароход на линии - весь город на набережной. Пристани красят, опять все. Весь класс, вся школа - позор, кто не явился». Время расцвета коллективизма, увлеченности коллективизмом. При этом, заметьте, никто друг другу не мешает. На «пятачке» жилплощади, где двери не закрываются и все на виду друг у друга, жизнь идет очень разная. Занадворов воспитывает сына («С этого дня я перестаю уважать тебя как личность»), Окошкин висит на телефоне и настырно вызывает «Клаву из весовой», Патрикеевна произносит сакраментальное «Сахар кончился», а Лапшин, чье 40-летие только что отпраздновали соратники и друзья, - сам Иван Лапшин, начальник угро, предвкушая удовольствие от розыгрыша, подкладывает в постель Окошкина никелированный шарик, украшающий спинку кровати... Веселятся они как дети, песни поют - слова все знают. Только вот спят тревожно. Лапшин просыпается от ночного кошмара, Окошкин и во сне продолжает ловить преступников... Организация экранного пространства, заставляющая почти физически почувствовать его сжатость, - не только бытовая характеристика. Концепция пространства у Германа осмыслена как категория этическая. За ней стоит исторически достоверный образ полпреда своего времени, чей бытовой и духовный аскетизм был естественным продолжением мировоззрения. Про такую породу людей сказал поэт: «Гвозди бы делать из этих людей. Крепче бы не было в мире гвоздей». Убежденные материалисты, они были романтиками высшей пробы. Ни грана прекраснодушия не было в них, но была всепоглощающая, неколебимая вера в революционную идею, была потребность самоотреченно этой идее служить на любом месте - где прикажет партия. В гражданскую Лапшин командовал кавалерийским эскадроном, был контужен, последствия контузии до сих пор дают о себе знать. Лапшин мучительно стесняется приступов болезни: болезнь - это слабость. Начальником угрозыска в небольшом окраинном городке он стал, скорей всего, не потому, что таков был его свободный выбор, - так было надо. Жизнь героев фильма подчинена императиву «надо». Они не отягощены рефлексией, не предаются греху самоанализа. Выкладываясь до конца, делают свою работу, но в «сплошной лихорадке буден» не теряют высшую цель. «Ничего. Вычистим землю, посадим сад. И еще сами успеем в том саду погулять», - убежденно говорит Иван Лапшин. Впервые эти слова прозвучат в том страшном эпизоде, который показался бы фрагментом из фильма ужасов, если бы не знакомые лица героев в кадре. Помните? На дворе непроглядная хмарь, кажется, ясного неба на свете просто нет и никогда не будет, поземка остро сечет лица. Пейзаж тоже не радует глаз: от горизонта до горизонта пусто - ни деревца, ни кустика, ни человеческого жилья. В мертвой этой земле вырыта землянка. Из нее, словно из преисподней, выносят на носилках покрытые рядном обезображенные трупы. Погрузка происходит очень быстро. Только отрывистые команды, только лязг скрепляемых бортов грузовика да истерические причитания шоферши из-за какой-то горючки. Мы догадываемся: не выдержали нервы у женщины. И в этот момент леденящего душу ужаса Лапшин, уже оседлавший свой мотоцикл с коляской, скажет заветные слова - про сад, который он мечтает вырастить на этой пустой, неродящей земле. Стоит задуматься над его словами. Ведь они, в сущности, проекция внутреннего мира героя. Тут и поймешь: Лапшин не просто ловит бандита Соловьева, получившего «вышку» в Туркестане за убийство совработника и сбежавшего из-под стражи у каких-то ротозеев. Лапшин осознанно делает историческую работу. Очищает землю от всякой нечисти. Чтобы потом посадить сад. Когда кто-то из артистов, несколько рисуясь, спросит «местного Пинкертона», какова психология убийц, Лапшин ответит, не задумываясь: «Какая тут психология! Душегубы». Про банду Соловьева мы многого не узнаем. Кто эти люди, зверски убивающие мирное население, что заставило их ступить на преступный путь - их история и предыстория останутся за кадром. Преступный мир в фильме скорее фон, чем действующее лицо, но мазки, этот фон обозначающие, нанесены так точно и так выразительно, что возникает странный, пугающий, даже загадочный образ иной реальности, подспудно живущей по своим законам параллельно с открытым - душа нараспашку - миром Лапшина и его друзей. Как ни скупы сведения о банде, как ни ограничено - в смысле метража - ее присутствие в кадре, в самом стиле показа есть та полнота недосказанности, которая подхлестывает наш интерес: возьмут ли Соловьева? Операция по захвату банды - едва ли не самый мастерски сделанный эпизод в фильме. Напряжение здесь достигнуто не только с помощью искусного мизансценирования и подробнейшей проработки каждого кадра: режиссер ставил эпизод как столкновение классовых врагов, как социальную схватку, исход которой вовсе не был предопределен - он решался в ходе операции. С геройским кличем «По коням!» врывается Лапшин в темные норы барака, где затаилась бандитская «малина». А вокруг - все замерло, как перед атакой. Улица с кривыми домишками словно утонула в молоке сырого тумана. Ни звука, ни движения - как в дурном сне. И как в дурном сне, возникнет, словно из-под земли, невидный такой, замухрышистый мужичок. Возникнет и пойдет в сторону от барака. А увидит его человек сугубо штатский, писатель Ханин, друг Лапшина, взятый им на операцию по слабости души: уж больно донимал просьбами. Ханин и станет жертвой Соловьева - замухрышка был, конечно, он, Соловьев. Надо ли видеть символику в том, что бандитский нож угодил не в кого-нибудь, а в стороннего вроде бы человека, который в схватке оперативников с уголовниками был всего лишь наблюдателем? С присущей интеллигенту неумелостью Ханин пытался остановить идущего, угадав в нем врага: «Товарищ, ну-ка, остановитесь! Товарищ! Я кому говорю, подойдите ко мне...» Писатель привычно полагался на силу слова... Режиссер вовсе не настаивает на такой трактовке. Метафора, иносказание - вообще не его стиль. Его стиль иной, документалистской природы. Я бы предложила такую формулу: обнажение внутреннего через внешнее. Алексей Герман строит фильм по законам синхронного репортажа. Поэтикой репортажа продиктован и способ воссоздания реальности прошлого: кинонаблюдение. Пристальное вглядывание в героев, в среду, их окружающую, вслушивание в их голоса, в шумы жизни. Репортажный эффект сымитирован мастерски. Иллюзия документальной съемки разрушается лишь нашей осведомленностью: мы твердо знаем, что вести репортаж из прошлого невозможно, и представляем себе, чего стоила авторам картины репортажная достоверность. Прежде чем фиксировать среду, ее надо было создать. А кинонаблюдение за героями, порученное виртуозной камере оператора В. Федосова, - тщательно подготовить. Первым делом собрать труппу актеров, владеющих мастерством импровизации на съемочной площадке, не связанных в зрительском сознании с каким-то определенным типажом. Так возник ансамбль. Ивана Лапшина сыграл новый в кино актер Андрей Болтнев, известный по «Торпедоносцам», где мы увидели его в роли инженера Гаврилова. Вместе с Болтневым снимались Алексей Жарков (Окошкин), Александр Филиппенко (Занадворов), Андрей Миронов (Ханин), Нина Русланова (Адашова), чьи знакомые лица обернулись в фильме совсем как бы и незнакомыми. Режиссер делал ставку на яркую индивидуальность, но требовал от исполнителей умения чувствовать и играть социальные типажи, не теряя при этом импровизационной легкости. Настроить актеров на импровизацию - это дело режиссера. И его секрет. Только он сам может рассказать, как добивался и добился той естественности поведения актеров перед камерой, той спонтанной обнаженности внутренней жизни, когда по лицам читаешь, как с листа. Не менее интересен режиссерский опыт по созданию второго и третьего планов в фильме, без чего репортажный эффект не состоялся бы. Следы импровизации, уже режиссерской, ощутимы и здесь. Трудно представить себе хотя бы тот же эпизод взятия банды, сложенный из микроэпизодов и микрореплик, в предварительной сценарной записи. Истошный женский вопль, срывающийся в истерику, реплика Лапшина про какой-то сапог, окошкинское «цып-цып-цып» - эти «огромные мелочи», организованные в параллельные ряды - все происходит и звучит одновременно, - прицельно работают на достоверность экрана. Когда сцена достигнет кульминации - после несчастья с Ханиным, и Лапшин в одиночку с пистолетом в руке выйдет к засаде Соловьева, мы психологически «обработаны» настолько, что перестаем быть зрителями - становимся участниками действия. И в этот момент в нас переливается состояние запредельного напряжения, состояние Лапшина: один на один с врагом. Плотность письма у Германа такая, что и на третьем, и на четвертом просмотре обнаруживаешь все новые подробности. Но даже если и не заметишь их глазом, их «заметит» подсознание. Мелькнувшая в глубине кадра тетка на телеге, затянувшая по привычке «Хасбулат удалой...», потянет за собой ниточку в какую-то другую жизнь, бесконечно далекую от забот Лапшина. Ниточка тут же оборвется, но в реплике за кадром, в фигуре на втором плане снова возникнет завязь или развязка чьих-то отношений, чьих-то драм и надежд. Режиссуру тут не отделить от драматургии, и трудно понять, где драматургия дает толчок режиссерской импровизации, а где драматургией становится режиссерская партитура. Фильм подталкивает к выводу, что кадр можно насыщать и насыщать информацией: наше восприятие чутко реагирует и на скрытые раздражители. Именно они питают ауру фильма, создают подсветки, тонкие оттенки смысла, которые и сообщают третье измерение двухмерному экрану. Вот пример. В самом начале картины есть буквально две реплики, указывающие на то, что в кругу Лапшина уже в 35-м говорили о войне как о реальной возможности. Но предощущением близкой драмы насквозь пронизана вся картина. В воздухе фильма разлита тревога. Она соткана из тяжелого звучания маршевых ритмов, из лязга ударных, из настроения антифашистских песен Эрнста Буша, что были на устах у всех. Не менее значим и эпизод, когда гости Лапшина показывают популярный в то время эстрадный номер: воздушный бой абиссинского летчика с фашистским асом. И другой эпизод, где Адашова в застольном разговоре оживленно сообщает окружающим, сколько бутылок «Абрау-Дюрсо» будут разливать наши винзаводы в 1942 году. Неведение героев сталкивается с нашим знанием: где-то они будут в 42-м? Ну, а когда трое - Лапшин, Окошкин и Занадворов - в яркий зимний день идут по парку в глубь кадра, невольно подстраиваясь в ногу, невольно обнаруживая военную выправку, их сильные спины, взятые крупно, вдруг покажутся беззащитными. Пристрелянными мишенями. Не поручусь, что режиссер добивался здесь именно такого обертона - как в эпизоде ранения Ханина вряд ли он ставил себе задачей создать образ безоружной духовности, отважно вышедшей на поединок со злом. Но мои ассоциации все-таки не плод разгулявшегося воображения критика. В художественном мире, где автор контролирует каждый клочок кинотекста, ничего не бывает «просто так». Каждый план, каждый ракурс, каждая мелочь сопряжены с концепцией, с замыслом максимально приблизить прошлое. В «Лапшине» нет ничего случайного и ничего служебного, втянутого в кадр в качестве сюжетной подпорки. Иван Лапшин - центр композиции. Все действующие лица связаны с Лапшиным и познаются через отношения с ним, но каждый ведет свою партию, обладает своим суверенным голосом. Персонажи окружения художественно автономны. Ханин представляет, так сказать, «интеллигентскую прослойку». Без Ханина картина была бы менее правдивой, взятый в ней срез общества, характер отношений того времени не был бы достаточно полным и достоверным. У писателя Ханина и профессионального революционера Лапшина простые и прочные отношении, какими бывают связаны люди одной веры, одной идеи. Их мужская дружба испытывается на истинность, когда холостяк Лапшин влюбляется в актрису местного драмтеатра Наташу Адашову. В момент объяснения Наташа признается, что безнадежно любит недавно овдовевшего Ханина. Проблему любовной тоски и ревности Лапшин решает по-своему. Он выходит на кухню, где в тазу кипит белье, и сует руку в кипяток. Прямо как толстовский отец Сергий, усмиривший плоть отрубанием пальца. Прощаясь перед отъездом, Ханин, разгадавший тайну друга, скажет: «Иногда я думаю, что ты из железа». Но и Ханин - тоже из железа. Внезапная смерть любимой жены ошеломила его, он даже пытался покончить счеты с жизнью - не получилось: Ханин не умел обращаться с оружием. После этой неудавшейся попытки он ничем больше не обнаружит своей боли. И здесь проступает время с его приказом не хныкать, держать в узде чувства. Мы не узнаем, почему холостякует Лапшин и почему Занадворов один, без жены растит сына. Это не имеет особого значения, когда личное подчинено общественному. С общественным у героев картины все в порядке, а вот в личной жизни почему-то не везет никому. Даже самый молодой из опергруппы Вася Окошкин, влюбленный в Клаву из весовой, и тот оказался негодным для семейного счастья: вернулся в лапшинскую коммуну. Личные судьбы мужчин даны скупо, почти знаково. Более подробно развернута женская судьба. Нина Русланова выстроила роль Адашовой в нервном, эксцентрическом рисунке. Наташа всегда возбуждена чуть больше, чем это нужно по ситуации. Скрытая горечь безответного чувства выливается порой в веселость на грани истерики. Но кроме Ханина в Наташиной жизни есть еще театр, сцена. А быт ее тоже не занимает, она легко прощает себе, что в сваренном ею супе плавают кусочки газеты, в которую было завернуто мясо: «Я актриса, и у меня через три дня премьера». Да и какой быт, если снимаешь комнатенку у мрачных хозяев и пользуешься из милости их чайником. С линией Адашовой связана в фильме тема отношений искусства с действительностью, по-видимому, не случайная для А. Германа, если вспомнить «Двадцать дней без войны»: там главный герой, журналист, сталкивался с тем явлением в искусстве, что позже было названо «лакировкой действительности». Режиссерской манере А. Германа чужды акценты, поэтому театральный сюжет в фильме можно воспринять как развитие лирической линии Лапшина и Наташи и проглядеть опять-таки «мелочи», характеризующие время. Чего стоит трагикомическая сцена в угрозыске, куда Адашова приходит, чтобы с разрешения Лапшина взять «урок жизни» у проститутки Катьки-Наполеон! Наташа читает Катьке текст роли и всерьез ждет ее авторитетной консультации. Они идиллически сидят в кабинете Лапшина на кожаном диване, ну прямо подружки, - пока Катьке не надоедает этот спектакль: тут она и показывает свой хулиганский оскал. Сцена рифмуется с второплановым сюжетом про лису и петуха, которых пионеры держат в одном вольере, гордые тем, что охотник и его добыча мирно соседствуют. В результате лиса петуха съела, поскольку в ней, к удивлению пионеров, «пробудился инстинкт хищника». То было время, когда все дурные человеческие проявления проходили как «пережитки прошлого». С пережитками в сознании общество активно боролось, веря, что любого человека можно исправить, стоит только захотеть. И Лапшин спрашивал отпетую Катьку: «Ты лучше расскажи, как думаешь исправляться». Эта социальная наивность, оборотная сторона революционного романтизма, изживалась по мере развития, но - что было, то было, тут, как говорится, ни убавить, ни прибавить. В той наивности отразилась гуманистическая вера в человека, свойственная лучшим людям времени, демократический идеал всеобщего равенства. Актеры общедоступного Художественного театра, репетируя «На дне», как известно, посещали ночлежки Хитрова рынка, изучали типажи. А для Наташи Адашовой было естественным побрататься с деклассированной Катькой, она не хотела видеть и не видела дистанции между собой и ею... Такой же романтической верой в исправление сбившихся с пути пронизан спектакль, где занята Наташа Адашова. Легко догадаться: труппа ставит погодинских «Аристократов», вещь, в свое время знавшую прославленных постановщиков и знаменитых актеров. Лапшин, который на наших глазах грузил трупы жертв бандитского разбоя, а завтра пойдет брать рецидивиста Соловьева и застрелит его на месте, так отзовется о спектакле: «Не все жизненно, но вещь нужная». А начальник Лапшина скажет после премьеры: «Что ж, такая постановка - дело нужное. Я так считаю». Утилитарный, как мы теперь говорим, подход к искусству. Разумеется, это крайность, но - тоже знак времени. Ведь практик Лапшин, имеющий 17 лет стажа по борьбе с преступным элементом, не может не понимать: уголовный мир в действительности выглядит иначе, чем на сцене. И он понимает. Но у него просто другая установка: он ждет от искусства не правды жизни, а правды идеала. Отношение к искусству чисто романтическое: романтики всех времен были выше действительности, искусство для них было сферой идеала, устремлений к высшей цели бытия. Концепция правды в искусстве с тех пор обогатилась. Ее откорректировала жизнь, оказавшаяся богаче нормативных представлений о ней, сложившихся одно время в искусстве. Мы и сегодня за крылатое искусство, проповедующее наши идеалы. Но правда идеала в искусстве всегда вырастает из правды жизни. Собственно, в этом убеждает нас и фильм «Мой друг Иван Лапшин», где сквозь подробно реконструированный быт, сквозь жесткую его реальность проступают высокие идеалы его героев. (Елена Стишова. «Искусство кино», 1985)
Бунт подробностей. "В гамме мировых лет есть такая точка, где переходят одно в другое воображение и знание, точка, которая достигается уменьшением крупных вещей и увеличением малых, - точка искусства" - Владимир Набоков. В коммунальной квартире сегодня застолье. «Сахар кончился!» - кричат откуда-то из-за спины, сбоку случайно уронили посуду, мимо проносят свежий пирог с грибами. Дальше по коридору, поворот за угол - в соседней комнате тут же начинается возня. Крупный план начальника местного угрозыска Ивана Лапшина с рюмкой в руке, но он сразу замолкает, справа у стены сосед Окошкин пытается дозвониться «Клаве из весовой». Гости расходятся, вместо их лиц мы несколько секунд наблюдаем старую лампу в подъезде. Сумбурно и путанно реконструирует свои детские воспоминания неизвестный рассказчик - еще один житель коммуналки, которому на тот момент было девять лет. Камера в фильмах Алексея Германа - персонаж самый загадочный и своенравный. Кажется, она намеренно устраняется от главных, формирующих нарратив событий, жадно цепляясь в этот момент за объекты непримечательные, всеми - порою даже лучами света - забытые. Словно уверовав в древние заблуждения того философа, что полагал, будто вещи исчезают, когда на них перестаешь смотреть, оператор вызволяет из небытия пыльные дверцы скрипучих шкафов, небрежно выведенные узоры на старых обоях, сваленное тряпье неопределенного цвета. В системе, когда вокруг все кипит, клокочет, копошится вечным двигателем, но внутри прямоугольной рамки кадра будто бы ничего и нет, зритель уже не может быть простым наблюдателем. Представления о фильмическом пространстве рушатся, измерения множатся, нет более точки, где чувствуешь себя обособленным потребителем картинки - германовский аудиовизуальный хаос вовлекает в процесс любого, кто осмелится за ним следить. Если рассуждать более глобально, то творчество Алексея Юрьевича - это всегда история о том, как второй план взбунтовался против первого. Примерно так бы выглядели Босх и Брейгель, переживи они соцреализм, разве что в нашем случае речь не только о визуале. «Иван Лапшин» - номинально детектив, но собственно детективная часть фабулы вытравлена куда-то на задворки хронометража, а основная сюжетная территория занята разговорами в коммуналках, посиделками в театральных подсобках, спорами на улице. Момент прозрения главного героя, предшествующий финальной погоне, который в западной традиции принято подавать россыпью крупных планов с затемнениями под торжественную музыку, здесь ужат до пары реплик усталого рассказчика. И даже в самых ключевых эпизодах невозможно гарантировать, что камера вдруг не увяжется за проходящей мимо старушонкой в валенках или не вперится взглядом в теребящего губу мальчишку. Понятие мизансцены, уже несколько десятилетий поддерживавшее ток крови европейского кино, теряет всякий смысл, перед нами торжество контекста, дразнящий размякшее восприятие танец смыслонагруженных мелочей, беспримесный образец вымирающего модернизма. А чтобы понять авторское мировоззрение достаточно вспомнить его комментарий к первоисточнику: «книга об одиночестве, написанная в стране, где отрицалось одиночество». И вправду, каждый живой человек здесь выглядит так, словно вернулся с решающей пробы на собственную роль, каждый - профессионал по симуляции счастья, спокойствия, беззаботности. Не знающая успеха актриса, в которую безответно влюбился Лапшин, предпочитает переживания забалтывать, Окошкин компенсирует неудачи новыми и новыми женщинами, сам же Иван Лапшин слывет «железным человеком», но просыпается ночами в слезах и холодном поту. Фильм смотрится калейдоскопом предынфарктных состояний, агонизирующая «нормальность» тут и там уступает место каким-то аномалиям, будто есть путь в зеркальный мир, где все люди несчастны и озлобленны. В родной квартире зловещих тайн оказывается не меньше, чем в бандитском логове. Как на самом деле зовут старуху Патрикеевну? Шутил ли Окошкин, говоря, что она съела своего мужа? Почему так мало разговаривает отец рассказчика и где его мать? Впрочем, последнее, что оставляет «Лапшин» - это физическое ощущение времени, времени неоднородного, такого близкого и такого далекого. Здесь отголоски гражданской войны накладываются на «оптимизм из последних сил» тридцатых годов, здесь взгляд рассказчика сквозь года сочетает искреннюю веру в наступившую оттепель с постхрущевским разочарованием - и на вершине пирамиды восприятий современный зритель, еще способный считать культурный код, но героев не узнающий. «А я люблю марши. Потому что в них молодость нашей страны», - говорит Лапшин. Страна, обреченная на вечную молодость, обреченная вечно смотреть в сторону горизонта. Вслед за упыхтевшим трамваем с портретом товарища Сталина картинка обретает цвета и повторяет стартовый кадр. Стая птиц штрихует наивно-голубое небо, через распахнувшееся окно веет полным надежд весенним воздухом, старенький теплоход медленно курсирует в направлении других берегов, но конечную станцию нам, разумеется, не покажут. «Ничего, вычистим землю, посадим сад и сами еще успеем погулять в том саду!». Снова и снова, но сад все никак не вырастет. (cherocky)
Маленькое зеркало большой жизни. Сумрачный город. Неразговорчивые люди. Давящие стены коммуналки, тусклый свет лампы в недрах милицейского отделения. Жесткие, циничные люди, нашедшие свою цель в узком пространстве камеры для допросов. Практически невидное небо, рождающее лишь белесый туман, убегающий от близкого знакомства, но тем не менее незримо присутствующий за спиной каждого из нас, порождая силуэты, на доли мгновения появляющиеся в поле зрения и стремительно уходящие вдаль. Таков мир Ивана Лапшина, начальника уголовного розыска провинциального городка Унчанска. Небольшой слепок из жизни, погоня за матерым рецидивистом, мозаика из друзей и знакомых, бессмысленный и отчаянный роман с актрисой гибнущего театра. Увиденный и словно бы воспроизведенный мальчиком. Обычная жизнь обычного человека. Желающего что-то изменить, несмотря на сгущающийся вокруг туман и тьму. Давно уже установилась мода ругать российское кино. За конъюнктурность, заказность, вопиющую конвейерность, вечное подражание чужим стандартам. В подавляющем большинстве случаев - вполне справедливо. При этом принято с не совсем уместной ностальгией оглядываться на модель советского кино, как будто там не было никакой заказности и той же конвейерности. Но ведь не в моделях же дело, а в таланте. Откровенно заказные, что логично для того времени, «Броненосец Потемкин» Сергея Эйзенштейна или «Земля» Александра Довженко стали общепризнанными мировыми шедеврами совсем не за идеологические подтексты, конечно же, вовсе нет. Да и сейчас довольно злорадные крики об окончательной кончине русского кино все-таки далеки от реальности, если, конечно, не опираться, к примеру, на творчество полностью растратившего свою художественную силу Никиты Михалкова. Есть молодые Звягинцев и Попогребский, именитые Лунгин и Балабанов, все еще на коне Сокуров и Муратова. И, конечно же, есть Алексей Герман. Пусть последний свой фильм он снял больше десяти лет назад и вот уже столько времени будоражит умы киноманов своей многострадальной экранизацией «Трудно быть богом» братьев Стругацких. В том, что, когда фильм в конце концов выйдет, он станет грандиозным событием, сомневаться не приходится. Герман давно уже доказал уникальность своего мастерства. Врожденная тяга к перфекционизму и неприятие какого-либо давления со стороны, результатом чего иногда ставало продолжительное держание фильмов «на полке», привели к немного грустному результату - за свою сорокалетнею карьеру режиссера маэстро снял всего пять картин, одну из которых («Седьмой спутник») снял совместно с Григорием Антоновым. Итого, имеем лишь четыре исконно «германовских» фильма. Последней лентой, сделанной Германом при Союзе, если не считать вышедшей в 1986-ом аж после 15 «полочных» лет «Проверки на дорогах», стал «Мой друг Иван Лапшин», снятый по повестям его отца, Юрия Германа. На любую вещь принято вешать ярлыки. Каков жанр «Лапшина»? Драма, детектив, прости Господи, триллер? Ведь, без сомнения, элементы этих жанров в фильме присутствуют, в том или ином качестве, но они настолько неуловимы и эфемерны, что поиск точки опоры для окрашивания картины в жанровые цвета становится практически невыполнимой задачей. Как ни странно, подобный коктейль стилистически неожиданно близко подошел к наследию «черного фильма» - нуара, даже его более позднему переосмыслению, получившему не шибко оригинальное название неонуара. Который, как принято считать, в советском и постсоветском кино так и не прижился. При общей «линии партии» на крайний соцреализм это не очень и удивительно. Но и здесь смогло вырасти свое, ни на что другое не похожее черное плодовое дерево. К сожалению, практически никто так и не решился за ним ухаживать, и оно со времен сгорело на жестком солнце кинотеатральной жвачки. Но факт остается фактом, в Союзе вышел свой шедевр той самой концепции, благодаря которой пан Полански за десяток лет до этого бросил на колени всю американскую критику. Конечно, ни о каком следовании западным канонам речи не идет в принципе. Общие элементы, как-то многочисленные смысловые аллюзии, харизматичные, неоднозначные характеры героев, «темная», затягивающая атмосфера и гипнотический видеоряд, присутствуют, но почти незримо, создавая фундамент, на котором автор создает интимную вселенную, принять которую захочет далеко не каждый. С классическим «черным жанром» «Лапшин» полярно разнится акцентами и выводами, воздействуя на другом уровне восприятия. Герману, в отличие от того же Полански, с дорогой к зрительским сердцам повезло куда меньше. С карьерной точки зрения, конечно. Благодаря цензуре, перманентно находящейся в состоянии «от греха подальше», фильм почти три года пролежал на пресловутой «полке» и дошел до зрителей в немного переделанном виде. Тернистый путь, но все-таки ожидание того стоило. Стиль Германа принято относить к гиперреализму. «Лапшин» в этом смысле - практически идеал. Режиссер с маниакальным упорством выстраивает картину того времени. Что интересно, сталинская эпоха представлена совершенно без «чернухи», глазами тех, кто просто тогда жил. Ведь для Алексея Германа это время детства, когда и солнце было ярче, и жизнь проще. Вероятно, именно поэтому тонкий мирок Лапшина выглядит настолько свежо и близко. Однако доведение приемов бытового реализма до абсолюта ведет к тому, что некоторые сцены предстают форменным сюрреализмом. «Сверхреальность» в чистом виде. Лента настолько органично выстроена, что создает эффект ирреальности происходящего, словно из другой стороны зеркала, демонстрирующего детали мира как будто еще более точно, чем они есть. Вероятно, не меньше, чем Герман, для фильма сделал оператор Валерий Федосов. «Мой друг Иван Лапшин» - вторая и последняя их общая картина. Для Федосова картина - творческий пик, вершина. Его камера завораживает, без всякого ЗD стирая грань между «той» и «этой» сторонами экрана. Безукоризненная работа, высшая лига. Захвачен каждый штрих актерской игры. Лицедеи, коих немало, сыграли свои партии на высшей ноте. Болтнев, Русланова, Жарков, да каждый совершенно органичен в любовно выстроенном полотне. Ну и просто великолепен Андрей Миронов в довольно неожиданном образе. Гениальный актер. Прозвучит банально, но Алексей Герман уже «живой классик». И каждый его фильм оставил неизгладимый след в искусстве. Считать ли лучшим его фильмом «Мой друг Иван Лапшин» или нет, не имеет такого уж большого значения. Им просто стоит насладиться, ибо настолько шикарные кинополотна найти очень уж непросто. Его оркестр уехал в туманную даль, но музыка продолжает звучать, услаждая вечность. (Green Snake)
Не все обращают внимание на то, что первые и последние кадры фильма цветные, при том что сам фильм черно-белый, а это принципиально важно. Это воспоминания постаревшего почти на полвека десятилетнего ребенка о людях 35-го года. Он знает то, что неизвестно им: у них впереди 37-ой, великая война. Они полны оптимизма, они уверены, что насадят небывалый сад и еще успеют погулять в нем, они безоговорочно верят в осуществление планов третьей пятилетки. Они знают, что будут счастливы вместе со всем прогрессивным человечеством, и личные несчастья, все несовершенства окружающей жизни никак на эту веру не влияют. Поэтому они получаются у Германа такими трогательными и даже беззащитными при всей уверенности в себе и активном вмешательстве в жизнь. Мы понимаем, что по своей чистоте, искренности, жертвенности они, как никто, достойны счастья, но его не будет: их время кончилось, зеркало разбито, их любимый поэт Маяковский застрелился. На смену искреннему порыву приходит бюрократическое государство. А мальчик, вспоминающий их, никогда уже не встречал людей лучше. Перед Алексеем Германом стояла задача необычайной сложности: циничный, развращенный, осмеивающий все идеи зритель 80-х годов должен был поверить в благородство, бессребреничество, бесшабашную доброту его героев. Поэтому он стремился к максимальной достоверности: она в подробности повествования, нарочитой неотобранности событий, как бы документальном запечатлении жизни; она в абсолютной несовременности мышления и манеры поведения, в наполненности подробностями быта, в создании полнейшей иллюзии нашего присутствия там. Именно так создается завораживающая атмосфера фильма, который не похож ни на один другой, даже на «Проверки на дорогах». А еще фильм привлекает неожиданностью поведения и реакций героев. Они несчастливы, но старательно не показывают этого. Журналист (абсолютно достоверно сыгранный Андреем Мироновым) сугубо бытовым тоном говорит о том, что, пока он был в командировке, умерла его жена, дальше такой же бытовой разговор, возникает впечатление, что он к этому равнодушен, а потом он пытается застрелиться. Актриса Адашова (Русланова) даже извиняется, что любит не Лапшина, а журналиста. Она его выходила после ранения, но, уезжая, он ее с собой не берет, оставаясь верным памяти жены. А ведь она этот отъезд объясняла вовсе не любовью - большими творческими возможностями, которые дает жизнь в столице. Ну а Лапшин ведет себя так, как будто между ними ничего не было. Герман как бы выводит своих героев за рамки моральных оценок, не возникает желания рассуждать о том, правильно ли они поступают. Понимаешь: только так они и могут себя вести, это в них «запрограммировано». Всему ли изображенному Германом нужно стопроцентно верить? Нет, это не копия времени, это миф о времени и его людях, но он укрупняет главное. По воспоминаниям родителей об их молодости, об их друзьях (они немного моложе героев фильма) я представлял себе их именно такими, хотя рассказывали уже совсем другие, изменившиеся вместе со временем люди. А в памяти останется молчаливый и сдержанный Болтнев как обобщенный образ эпохи. (Lev Myshkin)