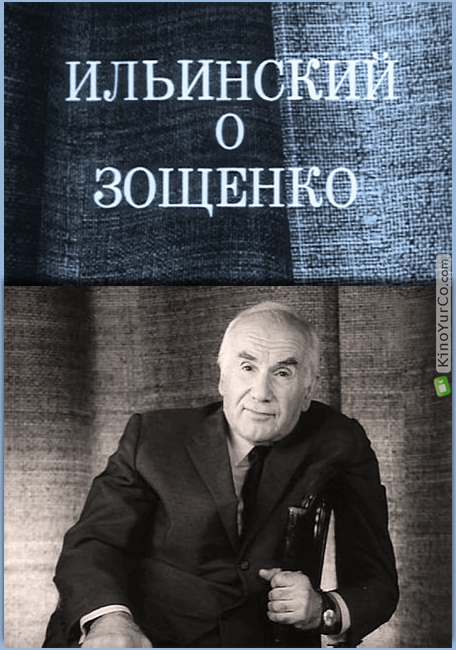ОБЗОР «ИЛЬИНСКИЙ О ЗОЩЕНКО» (1974)
Как-то Михаилу Михайловичу был задан вопрос, кто, поего мнению, лучше всех читает его рассказы. «Вне всякого сомнения, Игорь Владимирович Ильинский», - сказал Зощенко... Ильинский рассказывает о своем знакомстве с писателем и читает рассказы Зощенко «Аристократка», «Баня», «Елка», «Искусство Мельпомены», «Глупая история», «Лимонад» и «Рогулька».
Игорь Владимирович Ильинский (11 (24) июля 1901, Москва - 13 января 1987, Москва) - советский актер, режиссер театра и кино, мастер художественного слова (чтец). Народный артист СССР (1949). Герой Социалистического Труда (1974). Лауреат трех Сталинских премий первой степени (1941, 1942, 1951). Подробнее в Википедии - http://ru.wikipedia.org/wiki/Игорь_Ильинский.
Когда И. Сталину впервые представили Игоря Ильинского, он пошутил: "Здравствуйте, гражданин Бывалов. Вы бюрократ, и я бюрократ, мы поймем друг друга. Пойдемте побеседуем".
В марте 1966 года подписал письмо 13-ти деятелей советской науки, литературы и искусства в президиум ЦК КПСС против реабилитации И. В. Сталина.
Игорь Ильинский скончался в канун Старого Нового Года, когда по телевидению транслировался фильм «Карнавальная ночь».
"Нельзя проходить мимо этой актерской энциклопедии, мимо автобиографии огромного мастера, где восхищают старые немые киноиллюстрации, где познавателен и интересен разговор с Ильинским - задушевный, импровизационный. Скажу только одно. Удивительно: старые эпизоды, скажем, с закройщиком из Торжка или с незадачливым детективом Кравцовым, эпизоды условные, гротесковые, кажутся и натуральнее, и человечнее, и, главное, во сто раз узнаваемее по характеру иных сугубо реалистических эпизодов из сугубо современных картин. Ибо в них блестяще соблюден важный закон искусства - о нерасторжимости формы и содержания" - Виктор Орлов («Советский экран», 1966).
Михаил Михайлович Зощенко (28 июля (9 августа) 1894, Санкт-Петербург - 22 июля 1958, Сестрорецк) - писатель, признанный классик русской литературы. Подробнее в Википедии - http://ru.wikipedia.org/wiki/Зощенко,_Михаил_Михайлович.
В апреле 1946 года Зощенко в числе других писателей был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а через три месяца, после перепечатки журналом «Звезда» его рассказа для детей «Приключения обезьяны» (опубликован в 1945 году в «Мурзилке»), оказалось, что «окопавшийся в тылу Зощенко ничем не помог советскому народу в борьбе против немецких захватчиков». 14 августа 1946 года выходит Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград», в котором за «предоставление литературной трибуны писателю Зощенко» подверглись жесточайшей разгромной критике редакции обоих журналов - журнал «Ленинград» вообще был закрыт навсегда. "Грубой ошибкой «Звезды» является предоставление литературной трибуны писателю Зощенко, произведения которого чужды советской литературе. Редакции «Звезды» известно, что Зощенко давно специализировался на писании пустых, бессодержательных и пошлых вещей, на проповеди гнилой безыдейности, пошлости и аполитичности, рассчитанных на то, чтобы дезориентировать нашу молодежь и отравить ее сознание. Последний из опубликованных рассказов Зощенко «Приключения обезьяны» («Звезда», № 5-6 за 1946 г.) представляет пошлый пасквиль на советский быт и на советских людей. Зощенко изображает советские порядки и советских людей в уродливо карикатурной форме, клеветнически представляя советских людей примитивными, малокультурными, глупыми, с обывательскими вкусами и нравами. Злостно хулиганское изображение Зощенко нашей действительности сопровождается антисоветскими выпадами. Предоставление страниц «Звезды» таким пошлякам и подонкам литературы, как Зощенко, тем более недопустимо, что редакции «Звезда» хорошо известна физиономия Зощенко и недостойное поведение его во время войны, когда Зощенко, ничем не помогая советскому народу в его борьбе против немецких захватчиков, написал такую омерзительную вещь как «Перед восходом солнца», оценка которой, как и оценка всего литературного «творчества» Зощенко, была дана на страницах журнала «Большевик»." (Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) от 14.08.1946 № 274)
Справка МГБ СССР о Михаиле Зощенко (10 августа 1946 г.) - http://letopisetz.livejournal.com/538731.html.
Единственная запись голоса Зощенко: рассказ «Расписка» - http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books&pa=showbook&pid=207.
М. Зощенко в библиотеке Максима Мошкова - http://lib.ru/RUSSLIT/ZOSHENKO/.
Кто такой Игорлинский? Если бы не было изобретено кино, мало кто поверил бы в прошлое Игоря Ильинского - актера законченно гротескового стиля, веселого гистриона, создавшего собственное, никем и никак не повторенное амплуа современного, смешного, хотя и редко смеющегося чудака; в то, что его мастерство было близко к броской цирковой клоунаде с виртуозно разработанной эксцентрической техникой движения, походки, жеста, с несравненной живой мимической игрой лица. Сейчас это самый тонкий мастер психологического портрета, актер, владеющий богатой и сложной системой внутренних переживаний и их реалистически ясного выражения вовне, актер особо естественный в театральной огранке своего образа; как никто другой он преодолевает незаметные рубежи перехода от вымысла к реальности, от образа к действительному человеку. И его образы много дают жажде зрителя познавать. Но его биография, которая кажется вполне логически развивающейся, не вызывает ни у кого недоуменного вопроса, и, наверное, не только мне Игорь Ильинский кажется актером нераскрытой, необъясненной и даже необъясняемой внутренней духовной структуры. Лишь многоэтапная, развивающаяся почти одновременно в разных планах биография Игоря Ильинского подтверждает предположение о непредвиденности его пути и непредсказуемости движения его таланта. Надо вспомнить, что Игорь Ильинский всегда имел особое место в зрительском восприятии театра. Его популярность имела ярко демократический характер. Такой масштаб, в котором осуществлялась слава Ильинского, знали немногие знаменитости театра и кино. Игорь Ильинский был типичнейший образец любимого улицей актера. Улица, надо сказать, тогда тоже имела свою специфику, свой "день", свой человеческий состав, в котором большое место занимал мальчишечий народ. Каждая улица знала своих мальчишек, все они были любителями кино, и у каждой улицы был свой излюбленный местный кинозал. И всех этих знатоков киноискусства объединяла любовь к Ильинскому. Они сопутствовали его пребыванию вне дома и негласно утвердили за ним имя "Игорлинского". Потому ли, что считали таковым произношение его имени, или по другим причинам, но уличная Москва так и звала его - Игорлинский. Актер, который, в отличие от других, казался таким, каким он запечатлен в кино, никогда ничем другим не бывшим. Не снимавшим своего актерского лика. Притом тот герой, который принес ему эту славу, который оказался самым близким зрителю, и зрителю самому широкому из широких - был избран самой улицей. Этот герой был рожден в стихии смеха. Его Франц из "Праздника святого Йоргена", Тапиока из "Процесса о трех миллионах" были бродягами, скитающимися в поисках своего счастья. В "Папироснице от Моссельпрома" его герой служил где-то в банке; в "Закройщике из Торжка" он был провинциальный портной; в "Поцелуе Мэри Пикфорд" - театральный контролер; в "Мисс Менд" - репортер по отделу новостей и так далее ("Чашка чая", "Кукла с миллионами", "Когда мертвые пробуждаются", "Аэлита"). Это был, однако, специально, художественно заниженный персонаж, отчего в этой "низменности" была своя эстетизация, отчего он не был ни скучен, ни сентиментален и ни безлик. Так взгляд, специально направленный на нечто бесцветное и малоприметное, извлекает заряд интереса именно из этого неприметного, которое просто не учтено общепринятой системой оценок. Ильинский создал тип самой низкой, незначительной, заброшенной психологии, не обладающей никакими общими достоинствами, тип человека, никому не интересного, но втайне страстно желающего изменить свою участь, прорвать сомкнувшуюся над ним поверхность, отделяющую его от большой общей жизни. И это единственное человеческое движение в его героях делало в конце концов оправданным интерес актера к им же созданному странному существу. При этом Ильинский, не смягчая тона, высмеивал в нем все глупое и жалкое, все дурацкое и никчемное, чего тот нахватался в своем обывательском мирке. Созданием своего низкого героя и такой амбивалентной оценкой его Ильинский ответил одному из естественных требований демократизации и жизни и искусства. Он вводил в искусство тех, кто не надеялся быть когда-либо замечен и воспет не только в серьезных, но хотя бы в смешных, "макаронических", пародийных формах. Но как ни различны были его превращения, он оставался со своей темой. За сыгранными Ильинским ролями стояла чаще всего судьба или история человека, вытолкнутого из мира малого неожиданным космическим толчком в мир больших ритмов и сдвигов. Невероятные (для этих героев) ситуации, в которых они оказывались, были, с одной стороны, вполне реальны, с другой - крайне эксцентричны. В действиях героя, попавшего в них, сочеталась трусость с мужеством, невероятная глупость с находчивостью, наивность с жаждой к интересной жизни, ограниченность с фантазией. И нелепость их была особая: она всегда в итоге отдавала чем-то глубоко трогательным и человечным, ибо актерский эксцентризм не заслонял в манере актера своеобразного, неуклюжего и шероховатого, лиризма. Может быть, поэтому Ильинский сам воспринимался как один из ряда его персонажей, как лицо из фильма - или, как тогда говорили, - из картины. Не то что его принимали, скажем, как живого Гопкинса из "Мисс Менд", скорее Гопкинса принимали за него: в этом фильме актеры Фогель и Барнет играли героев, носивших их фамилии: Фогель и Барнет, но больше всего это было близко Ильинскому, хотя его героя звали Гопкинс. Но для всех в зале это был сам Ильинский. Характер тех лет, того времени был насквозь деловой, энтузиастический, не праздный, но дороже многого в искусстве был для зала этот нелепый, неловкий, в тесном пиджаке и широких, никогда не глаженных брюках, полный напрасных и никому не нужных идей смешной человек. И увидеть Ильинского на улице, "в жизни", нельзя было без предположения, что это реализованный самой жизнью парадокс. Останавливались, глядели вслед, спрашивали: "Неужели это он?", иными словами: "Неужели он возможен вне кино?" Ильинского, повторяю, не могли отделить от его киногероев, он был одним из них, и когда кто-то увидел впервые его на улице, то пришел в неописуемое удивление: "Ведь он элегантный! Стройный! Красивый!!!" А думали - может, и себе не признаваясь, - что он неумытый и с флюсом, обвязанным какой-то тряпицей. А он - серое пальто в клетку, серая клетчатая кепка - мода тех лет, роговые очки, всегда близорук, но в очках никогда не играл. Он ли? Да, так он запечатлен в молодые годы, такой он был тогда, когда уличные мальчишки его называли "Игорлинский" и выстраивали за ним подобие свиты, хвост, увеличивающийся от улицы к улице. В те годы кино только входило в быт, но входило тотально, как Тамерлан, особенно Голливуд с Дугласом Фербенксом и Мэри Пикфорд. Это был лучший период в зарубежном кино. Его золотой век. Век Гриффита. Они имели победительный успех, но Ильинский остался непобежденным, потому что выражал новое настроение и состояние в искусстве, какие-то несомненно реальные грани социальной психологии он преломлял в своем неповторимом гротеске. Подобно Чарли Чаплину, он уходил от сколько-нибудь прямых совпадений с реальностью, но шел от нее. Оттачивая и заостряя подмеченное, он придавал своим бытовым наблюдениям фантастически сгущенные черты; его герои были чудаками, юродивыми, их одежда, прическа, их походка и жесты, их голос и улыбки, их действия - все было заранее ненастоящим, выпадало из норм смысла, ритма, стиля жизни и вместе с тем было порождением самой жизни. Ее взбаламученного, взвихренного, перепутанного времени, той сложной, пестрой, фантастической, многообразной, многоликой панорамы лиц, типов, характеров, настроений, судеб. В том, как он вошел в искусство, то есть проник в сердца и души тех, кого называют зрителями, тоже было нечто особенное, редкостное. Он появился в мире кино не как актер, которого пришли смотреть и ценить, а как наша возможность любить смех, и отовсюду, где есть возможность, извлекать его. Ильинский был из той редкостной категории актеров, которые играют не в круге мелких конкретностей, а в стихиях чувств, смеха, слез, героического, лиризма. Было ему призванием - извлечь комическое отовсюду и воплотить во всем, что может стать актерским материалом. Жизнь тех лет тоже цвела идеями искусства, и идея киноискусства Игоря Ильинского становилась одной из сияющих - даром что и наивных - красок на палитре бытия. Разумеется, Ильинский не заявлял об этом, не декларировал, но современниками он неизменно воспринимался как персонифицированный смех, как явление этой радостной и животворной эмоции, а уж потом как творец экранных изображений. Для любой публики, не только завсегдатаев кино, Ильинский был человеком, имя которого означало комедию, невероятность, гротеск, даже нонсенс, художественное нарушение смысла. Оказалось, что комическое в те трудные, тяжелые и героические времена - это самая насущная, желанная и потому жизненная категория. Но с жизнью Ильинский-комик соотносился не прямо: его киногерой и герой театра соотносились с ней как метафора. Метафора обычного "я" в необычном "оно". Заурядная личность, попавшая в ультранеобычные обстоятельства. Он не умел на них отвечать правильно, он все время поступал наоборот, этот мирный обитатель городов и пригородов. У Ильинского всегда был особый, уникально неповторимый стиль, и еще до кино, до ГосТИМа, он сразу стал узнаваем рецензентским глазом по внешним признакам рисунка. В 1922 году его уже знали и, споря о стиле и стилях, упоминали и его, Ильинского. Еще не было новых пьес, понятие новой режиссуры сосредоточивалось в мейерхольдовских, фореггеровских и таировских опытах. Театр упрекали в медлительности, торопили его вступление в процесс строительства новой жизни. А театральные умы уже спорили о том, что такое новый стиль - стиль эпохи. Открыли дискуссию, назвали ее Дискуссией о стиле РСФСР. Стиль эпохи, писал Ипполит Соколов, - прямая линия, стремительный взлет, резкий сдвиг. Валентин Парнах, поэт и танцор, первый пропагандист джаза, объявлял стилем эпохи эксцентризм, корни которого он извлекал, ни много ни мало, из библейских времен. Железную прямолинейность и угловатость как формулу целесообразности объявляла новым стилем Л. Попова, художница "Великодушного рогоносца". Таиров искал стиль в эллипсоидах и вычурной орнаментации необарокко. И, наконец, Фореггер, который посвящал целые исследования синкопирующему буйству мюзик-холльной акробатики, ритмам современного европейски-американского урбанизма: "Мюзик-холл в пролетарском убранстве". Вот как закручивалась проблема средств выразительности сцены, как ее кидало в те бурные годы; из стен реалистических театров в мюзик-холл, на сцены малых форм типа художественных кабаре - "Кривой Джимми" или "Нерыдай". Реальная художественная атмосфера избыточно, изобильно поставляла потоки самозарождающихся внешних форм. Нельзя было оставаться вне ее, незаинтересованным, неучаствующим, гибкая и самобытная выразительная пластика Игоря Ильинского, необычайно характерная и содержательная, исполненная музыкальности, впитала все новшества и отвечала на них своими откровениями и находками. Его "увидели" сразу, как он вышел на сцену. О нем в 1924 году написали так: "Ильинский поражает. У него свой стиль - "изящно-грубый гротеск". Он не похож ни на одного своего предшественника - русского комика. Они были смешны потому, что играли смешное. Первым в России Ильинский перенес центр тяжести с "что" на "как". И когда он играет, мы ощущаем именно это: важно само по себе его исполнение. Публика смеется не потому, что смешон Счастливцев, но потому что смешон Ильинский". Ильинский становился виртуозом техники, мастером эксцентрической трансформации и акробатики. Это началось еще до Мейерхольда, до "Великодушного рогоносца". Очень существенно, что Ильинский делал первые роли в театре-студии Ф. Ф. Комиссаржевского и под влиянием его утонченной, рафинированной лепки образа. Одновременно - под мудрым наблюдением В. Г. Сахновского. Первый раз он вышел на сцену в этом театре в "Виндзорских проказницах", играя Фальстафа. Тут, как первая завязь плода, и определилась чуть-чуть, еще начально - и любовь к комическому, и тяготение к остроте приема, и известная формальная красочность, и видимая музыкальность психологических внутренних движений. Он пошел за Комиссаржевским и в театр ХПСРО, - пойди он за В. Г. Сахновским, вторым руководителем студии, талантливым, не оцененным по заслугам человеком высокого ума, было бы, наверное, все иначе, наверное, он был бы в МХАТ. Но все сложилось не так. Комиссаржевский открыл театр зингшпилем Моцарта "Похищение из гарема". И, подтверждая наличие настоящей музыкальности в Игоре Ильинском, вывел его в главной роли - в паше Селиме. После Селима была роль настоящая балетная в переделке глюковской оперы "Любовь в полях", а потом Ариэль в "Буре", и опять острохарактерная роль - садовник в "Свадьбе Фигаро", в грядку с левкоями которого падает из окна графини влюбленный паж Керубино. На Ильинского обращают внимание все - и в том числе идеологи разнообразных новаторских стилей. И вот уже идет его работа с Фореггером в "Близнецах" Плавта - классическая роль парасита по имени Столовая Щетка, а потом начинается просто почти бег - Ильинский идет в оперетту, где он, как пишет, рецензент, не уступает Ярону в комизме, потом на краткий период в "Летучую мышь" - кабаре Балиева. Потом возвращается, как шутили, играть в театре Мейерхольда последний акт. Конечно, вокруг него веют все ветры времени, крутятся разные направления, и Ильинский если и хочет их преодолеть, то не в обители реализма, а в том же буйном заповеднике самых изобретательных и изысканных форм. Сразу ли понял его будущее Мейерхольд, когда подметил эту новую звезду, - не знаю. Но все в творчестве Ильинского решила его встреча с Мейерхольдом в "Зорях" Верхарна. И в "Зорях" и в "Вильгельме Телле" Ильинский играет - кстати, это его первые трагические роли - Гислена в одной и Россельмана в другой постановке. Чем и доказывается, конечно, что к драматическим жизненным ситуациям, к проблеме трагического в человеческой судьбе Ильинский пришел не случайно и много раньше того, как он стал читать с подмостков 40-х годов историю гувернера Карла Ивановича. Потом он играл в "Великодушном рогоносце", потом ушел от Мейерхольда на один сезон, вернулся, через некоторое время опять ушел. И возродился вновь как популярнейший киноактер, создатель своего типа в советском раннем кинематографе. Его новое появление и взлет на высокой волне внимания и обозначился киноролями. Но в кино он вошел не таким, каким играл в театре, а сделал то, что сегодня актер не делает: изменил художественную технику для творчества в кино. Он не был пассивен перед новым искусством, он искал и двигался. Ну, а эксцентрика, трюк - не "зажимала" ли она актера в тиски властолюбивой формы? Вот поэт В. Шершеневич назвал Игоря Ильинского "кубистом жеста". Что скрывалось за этим изысканным определением? Оно было скорее образно, нежели аналитично. С кубизмом ничто Игорлинского не связывало, но характер жеста был таков, будто актер в пространстве графически чертил те внутренние психологические импульсы, какие давал ему образ; он линейно и объемно врезался в пространство и да вал нам возможность особого сценического впечатления. Было ли оно только легким, только обогащающим нас? Конечно, нет, конечно, тут была и головоломная загадочность, и ребус без ответа, и избыточная экстравагантность. Был и марионеточный холод и балаганный перехлест. Но, признавая это, не признаю этот стиль побежденным и отринутым, ибо в нем при помощи биомеханической речи обреталась великолепная, необычная, обостренная выразительность мысли. Дело в том, что Игорлинский нашел в форме жеста и движения (и позы и лица) не "зажим", а свободу. Не тираническую форму, а выход из стандартной, бытовой, невыразительной, общей для всех формы в свою динамическую, острую; своевольную телесную свободу. Рисовал то, что чувствовал. Ведь зажим дает только чужая, неосвоенная форма, откуда-то предписанная, навязанная, а второго такого "кубиста" или некубиста, как Ильинский с его выводком героев, не сыщешь. И Мартинсон - другой, и Фогель - иной, и Дм. Орлов не похож на него. Нет, это свое, художественно выраженное обитание актерского тела на сцене, это воля актера, которая слышит подсказ подсознательного и необычайно самостоятельно формирует его. Ильинский, казалось, легко нашел свой душевный выход в безграничной стихии острой выразительности. Посмотрите на него в "Процессе о трех миллионах"! Какая бесконечная свобода игры рук, ног, всего тела, опущенных век Тапиоки, уснувшего на крыше, у трубы, то есть на посту, который ему надлежит охранять! Ничто не успевает в этой бегущей по клавиатуре мелодии застыть, остановиться. Скорее уж в застываемости можно упрекнуть Бывалова и Огурцова, где Ильинский все делает с большой долей общепринятого отношения к форме, и с некоторой разграниченностью роли и актера, и с усилением поучительной интонации. Хотя и эти роли сыграны так, как другой бы не сыграл. Не Игорлинский бы и не сыграл. Но об этом потом. Вернемся немного к поре образования Игорлинского. Само собой появляется образ Мейерхольда, без которого тут, в истории творчества Ильинского, не обошлось. Мейерхольд был тем хорош, что, взбаламутив театральное море, взвихрив театральное время, он знал, что придется делать тогда, когда "старое" начнет требовать от "нового" настоящих замен, а не эрзацев, достойных и серьезных смен, сделанных грамотно, во всеоружии культуры и таланта. Театр был богат идеями и дерзаниями, наполнен ими до отказа, опублицистичен и огражданствен, но надо было подумать и о технике, об азах театрального искусства, то есть доказать, что тот, кто крушил, не только крушил, но и создавал. И в ряду нерешенных вопросов стояла актерская техника, если считать, что идеология была освоена, и, в общем, конечно, это так и было. В анализе творчества современников и соратников Ильинского можно увидеть многие, ими укрепляемые, ими возводимые бастионы и мосты нового театра. Здесь же речь идет лишь об Ильинском. Он был одним из тех в театре Мейерхольда, кому совсем не мешали сомнения или робость. С ним Мейерхольд легко мог решиться на любой опыт, на любую операцию обновления актерского дела. На любой "трюк", выдумку, театральную шутку, которую тогда называли "лацци" по терминологии комедии дель арте. А что такое трюк, когда он является оружием режиссера, когда тот "мнет глину" актерского материала и укрепляет новыми "ребрами"? Роли Ильинского были исполнены трюков. Он падал, прыгал на ходу с поезда, его бросали в воду, он проваливался под лед, его взмывало вверх на блоке, его били, на него летели тяжелые предметы, он прыгал на пиршественный стол. И так далее. Все подобное делается, допустим, и в цирке, но и в кинофильме на съемках и в театре актер не перестает играть роль и находится в образе. И ни один трюк, или "номер", неспособен выбить его из творческого состояния. То есть трюк нужен был Мейерхольду как проверка прочности хрупкой постройки образа, трюк был чем-то вроде обжига или закалки изделия. Мейерхольд, например, предлагал актеру во время монолога сделать кульбит и продолжать монолог, уверяя, что если внутреннее состояние актера не нарушится, то зритель кульбита не увидит. Он увидит верх выражения трагизма и той предельно высокой идеи, которой монолог служил. Ильинский был особый комик, который находился по сущности не в комической, а в драматической ситуации: шел по краю жизни, и все было против него и грозило ему уничтожением, и нужен был его максимум сил для сохранения себя и победы. Но его приключения вызывали юмористическую реакцию: мы смеялись, не фиксируя натуральности страданий того, кого играл Ильинский. Дело было в том, что все его реакции находились на высшем пределе неожиданности и удивления, нелепый, нескладный, просто неполноценный человек, из рук которого все валится, который спотыкается на ровном месте (его герой не был никогда легок, отнюдь не казался танцором), который все норовит раздавить и захвалить, - этот человек, по виду имеющий сходство с мешком, пускается в смертоносные предприятия. И чтобы языком точным, соответствующим задаче, выразить все, что с таким человеком произойдет на протяжении всей его эпопеи, и нужен опасный, рискованный язык трюков, нужна особая виртуозность неуклюжести, ритмичность увальня, рассчитанность нескладности, но так искусно зашифрованные, что никакой внешней акробатической ловкости нельзя было заподозрить. Главная особенность трюка - это точный художественный расчет. Математически проверенный. Трюк - это не уличное происшествие, в котором кто-то кого-то толкает в лужу. Трюк у Мейерхольда требовал науки, и он отсылал актера к гимнасту или к эксцентрику, если надо было падать с лестницы вниз головой. И актеры, которых считали спецами по трюку, скажем, Ильинский, Коваль-Самборский, Охлопков или сам Всеволод Эмильевич и другие, могли, фигурально выражаясь, подковать блоху - так до совершенства отработана была актерская техника. Такой технике иногда завидовала режиссура МХАТ. Кого же вспомнить? Ну, конечно, актера Аркашку Счастливцева в "Лесе", безвестного, бездомного, безымянного актера русского театра XIX века, который в самый ответственный момент своей жизни ловит рыбу, в надежде хоть ею утолить голод. "Лес", поставленный Мейерхольдом, был громокипящим кубком режиссерской фантазии, манифестом нового театра и в озорстве и в серьезе: идея "Леса" была - обличать с высот современной жизни и ее устремлений ту дикую жизнь, которую Островский назвал глухим и дремучим лесом, способным затормозить любое движение жизни. "Лес" был настоящим русским, демократическим спектаклем. В "Лесе" играло немало отличных актеров, там сверкала мейерхоль-довская режиссура, но театральная Москва говорила об Аркашке - Ильинском, о том, как бьется у него в руках пойманная рыбешка - наверняка живая, - хотя на самом деле ни лески, ни наживки, ни рыбки, ни речки не было, - картина была создана игрой молодого Ильинского: подлинным оркестровым тутти его мимики, стаккатным дождем его переходов и перебежек; все оттенялось к тому же ошеломительной смелостью выдумок и трусами из козьего меха, дерзким выражением своего нищего превосходства над обошедшими его благами. Правда, удочка была не единственной вещью, какой распоряжался в этом спектакле актер. Он владел целой сферой, наполненной игровыми вещами или предметами бутафории театра, владел ими с открытым артистизмом, с цирковой техникой, которая у Мейерхольда имела иное назначение. А именно - она должна была соединить человека, фон, быт, пространство, вещь и дать в совершенно неожиданном виде психологию. Посмотреть даже сейчас на Аркашку с удочкой или с узелком скудных пожиток - да это портрет с деталями, вводящими в историю Аркашки, прошлое, настоящее и судьбу. Достижение такого рода дело непростое. Для иных недоступное. Но техника Ильинского была такова, что он всего достигал и даже с излишком. У средневекового мима просто не было ничего другого, и его негде было взять, это другое, потому что в распоряжении мима была всего-навсего роза или палка. Актер Ильинский мог быть оснащен сколь ему угодно богато и разнообразно, но режиссер хотел получить от актера максимум выразительности с использованием внутренних ресурсов: для этого он сужал окружающие того вещи пределом: от одной до двух-трех. Тогда в актере пробуждался азарт достижения невозможного, он смеялся над попыткой поставить его в трудное положение; одна единственная вещь становилась равноценной множеству разнонаправленных знаков и примет: Игорь Ильинский, играя с удочкой, создавал иллюзию речки, тихой заводи, лесной тропы, прохладного утра. При этом блестящая внешняя техника актера не только питалась внутренней сферой чувства, стремления и переживания момента, которых зритель в чистом виде не ощущал и не считал важными; но и сама техника игры питала актера, пробуждала в нем фантазию, артистичность. И внутреннее выступало в форме обостренной, сияющей, как после летней грозы. А Брюно из "Великодушного рогоносца"! Мы его все больше и больше забываем, у него так мало очевидцев, мы и умалчиваем, не имея права сказать о нем что-то конкретное. Брюно, которого я не видела, тем не менее мне представляется всегда - как на одном снимке - сидящим на верхней точке конструкций, придуманных художницей Л. Поповой: молодым, здоровым, сияющим счастьем и ожидающим Стеллу. У него на шее какой-то шнурок с двумя помпонами. Через мгновение он сдвинется с нормы, потеряет самого себя в приступе патологической ревности, и, чтобы найти того, с кем якобы обманула его Стелла, он начнет творить поступки с невероятной логикой, которая противоречит нормальной логике или здравому смыслу. Он будет проигрывать шаг за шагом свое преимущество, он будет падать - иносказательно - с верхней точки, идя от короля к пешке, которую вскоре и проглотит черное безумие. И Брюно будет сброшен с доски. Вот он сам, надев маску и огромный нос, страшно изменившись, заставляя каждым шагом затихать зал в тревоге, постучит в дверь Стеллы, доведенной им до отчаянного детского ужаса. Он сам хочет проверить, изменит ему Стелла с ним же или нет. Какая неподдающаяся логике игра чувства, мысли, воли, какой предел психотехнической силы воздействия на зал! Был ли это гротеск простой маскообразностью и заледенелостью острых алогических линий и форм? Было ли содержание его неотчетливым, с символической, доминантно-сгущенной, нерасчлененной образной массой? Гротеск "Великодушного рогоносца" был совсем иной, это был скорее внешний арабеск невероятно сложных и неожиданных жестов-движений, таких сложных и спутанных, что их логику усмотреть было невозможно, но такая игра выстраивала зрительские эмоции в некий точный ряд, ибо они были откликом на психологические сигналы, даваемые этим "арабеском" тела актера. И если описать, идя от эмоций, что творилось вокруг безумного Брюно, то явственно встает во всех этапах фантасмагория темных, подсознательно страшных чувств, болезненной, навязчивой идеи, бушующих на сцене и доставляющих острейшие страдания самому их носителю. Это можно ощутить, даже лишь взглянув на фотоснимки, особенно редкие экземпляры, не набившие оскомины. То, что была психологическая буря, и то, что биомеханика ее выражала - это несомненно, - как бы говорят снимки. Если же взглянуть на снимки Стеллы - Бабановой, фиксирующие ее в движении, то бросается в глаза шквал, ливень психологических токов, которые летят с фотографии на вас. Конечно, Ильинский выходил в мир чудес сверхсвободной техники и той антитеатральной театральности, которой пытался овладеть он - и не один он. Конечно, фантазирующая режиссура Мейерхольда выводила актера из аморфно-неподвижной правильности. И он не только не заковал, а высвободил душевный механизм актера, пробудил его ко всему прилипающее любопытство, его актерскую жадность к жизни, его восторг обнаружения в себе того, что он видит вовне, его небытовой жест, ибо бытовым ничего не подцепишь. С такой школой трюка Ильинский вошел и в "Клопа", где между клопом и Присыпкиным была аллегорическая перекличка (в таком ключе играет сегодня и Н. Пеньков в постановке мейерхольдовца В. Плучека). Это была эстетика уродства и бесформия, она не подменялась противоположностью в виде музыкальности и элегантности, но это была художественная форма уродства. Так же как в "Бане" - механизированный бюрократ Победоносиков. И вот в кино, как верно замечает В. Шершеневич, Ильинский приобрел иную, специально кинематографическую технику, иной язык самого себя. Он был, разумеется, не один в ореоле актерского чуда тех лет, оставившего очень серьезный след в развитии советской кинематографии. У него оказался ряд последователей, иные из которых очень талантливо развивали им открытый способ эксцентрического переживания и эксцентрического воплощения характеров, стоящих на грани гротеска. Кинообразы отличались от его ролей в театре широкой и большой демократичностью и интернациональностью, хотя литературно ничего крупного не представляли. Мы уже говорили, что в фильмах с Ильинским возникала своеобразная цикличность похождений героя то в одной, то в другой истории, и найти их единство удается почти без допуска: они все как бы двойники актера, он доверил им свои гротеско-коми-ко-лирические переживания. Он сам - один из них. Это его внутренняя неповторимая особенность. Вышел он и на эстраду, которой тоже нужен был в те годы смех, его разящая сила. И не случайно Ильинский начал с Зощенко, с его ошеломляюще художественно-грубых, дерзко-наивных комических сказов. Потом он искал свои жертвы смеха по всей русской литературе. Тогда можно связать два брошенных конца. Ибо так же, как он создавал цикл героя в кинокомедиях, в театре, он создал цикл в чеховских рассказах на эстраде. Снимок, на котором мы видим Ильинского среди его тридцати чеховских ролей на телевидении (фильм 60-х годов "Эти разные, разные лица"), подтверждает с явной наглядностью это предположение. Не совсем он чтец, Игорлинский; он во всех своих эстрадных явлениях творец объемных, зримых, измеренных временем и пространством живых гротесков или полугротесков-полухарактеров. Их явления в наш зримый мир он обставлял как тот актер, которого мы знали и которому кричали из тьмы кинозалов "браво!". Конечно, технике, той ультратрюковой технике, которая живет в неисчезнувших отпечатках памяти, Ильинский обязан этим новым у себя видом творчества, которое не есть чтение и не есть игра, но несомненно дитя этих муз. Так, тридцать или больше фигур из чеховского телефильма и есть доказательство того предположения, что он пришел к нам как исполнение постоянной мечты человека о смехе, постоянного ожидания его, готовности увидеть смешное во всем, что удивляет, что проявляет неисчерпанность мира, преобладание этой неисчерпанности над миром явленным. Он не всегда носил звание народного, но был всегда народным. Я вспоминаю средневекового жонглера из Анатоля Франса, который, когда все принесли свои дары Мадонне, встал на руки и прошелся вокруг нее. У жонглера его мастерство было самым дорогим, чем он обладал. И Ильинский, когда жизнь вторглась в искусство, в чем-то очень схоже отдал ей дань. Отбросил все, надел лохмотья и, скривив ноги, вышел на экран. Он менялся, много раз менялся - естественно, идя не по готовым путям, а часто и гонимый влиянием бурных перемен, и под воздействием опыта, который делался все весомее и тяжелее. В конце 30-х и 50-е годы, когда режиссура Г. Александрова, а потом Э. Рязанова, возрождая комедию на экране, остерегалась и фарса, и гротеска, и очень уж резкого трюкачества, от этих усилий мы получили бытовую, не очень острую, но фельетонную веселую комедиографию: Игорь Ильинский тогда сыграл Быва-лова и Огурцова. Он применил, если сравнивать с прежними киногероями, прием карикатуры, имеющий целью вытащить "на солнышко" те недостатки и пороки, о которых можно сказать, что они были общи. Умственная узость и ограниченность, душевная сухость, формальное отношение к делу и бюрократизм. Это высмеивалось в газетах, в пьесах и попало в кинообъектив. Огурцов и Бывалов были смешны, но не беспредельно. Смех отдавал морализаторством. Все вокруг знали, как следует жить, как относиться к веселью, к любви, к труду, к красоте, друг к другу. Не знали только ни Бывалов в "Волге-Волге", ни Огурцов в "Карнавальной ночи". Все и вся смеялись над ними, и если бы, казалось, каждого из них изъять из жизненной ситуации, жизнь превратилась бы в рай. Думаю, что это особый случай в творчестве Ильинского, когда персонаж, заставляющий зрителя смеяться от души, был по всем своим функциям в сценарии неприятен, даже хуже - бездарен в самой его жизни. Я не буду оспаривать сценаристов: допустима широта во взгляде на смех, они сделали из смеха розги и ими вели экзекуцию. Но для меня несомненна истина, что смех - категория многоаспектная в одно и то же время. Именно в одно и то же время смех зол и добр, горек и жизнерадостен, конкретен и бесконечен. И именно этой разносторонности недоставало тому принципу, с которым подошли к своим комедиям и Александров и Рязанов. Но Ильинский сумел как-то обойти эту пропасть, не сорваться в нее: он создал классические для советской комедии образы человеческой неполноценности, ударил по мелкотравчатым руководителям, возомнившим себя кормчими хотя бы в пределах небольших городских учреждений. Его Огурцова можно было бы назвать бывшим Присыпкиным или воспоминанием о Присыпкине, которому удалось не заморозиться. Вот он мог быть и таким в силу своего убожества, сочетавшегося с не-принадлежащим ему чувством рабочего первородства. Но с удовольствием пересматривая вновь и вновь эти ленты и радуясь возможности улыбнуться остроумным и острым моментам, я не могу не видеть, что из глаз этих героев Ильинского, как он ее ни глушит, все же смотрит тоска самого артиста по тому всеобъемлющему, неразменному смеху, с волшебной самостоятельностью творящему свое сложное назначение в жизни человека, к которому он, Ильинский, был приобщен по рождению. Ильинский ускользает, уходит, убегает от любой схемы, как актер ищущий и жаждущий полноты выражения в творчестве. И хорошо, что это так, а карточки, в которые его хотелось бы расписать, пусть подождут. В такие-то годы период такой-то, в такие-то - другой. А может быть, они все одновременно существуют - и все исчезают, обманывая нас мнимой стройностью? Вот, кстати, надо вспомнить, что в 40-е годы Ильинский уже играл в Малом театре, после закрытия ГосТИМа. Это был самый серьезный, правильный, нормальный и выдержанный период в его биографии. Играл он, например, некоего ученого в пьесе Н. Погодина со странным названием "Когда ломаются копья". Странное оно было тем, что никакие копья здесь не ломались; ничто другое сломаться тоже не могло, потому что пьеса была из породы бесконфликтных. Когда Погодин писал острые, тревожные, задиристые пьесы, он их называл куда как мирно, например "Поэма о топоре" или "Мой друг". А здесь "Когда ломаются...". А ломать нечем. И это был тот период, когда Игорлинский ушел в прошлое и где-то в уголках памяти улыбался и кивал своим былым любителям уличной литературы - кино, ГосТИМа и бескорыстного смеха. В Малом театре он стал режиссером. Поставил "Ярмарку тщеславия" Теккерея, "Любовь Яровую", "Госпожу Бовари", "Ревизор", "Лес", давая выход переполнявшим его образам и невероятно большой, кипучей творческой энергии. Лучшей среди них была постановка "Леса" с эпическим финальным уходом Счастливцева - его он играл сам - и Несчастливцева - Р. Филиппова на фоне движущейся нескончаемой панорамы русских просторов. Сыграл Ильинский здесь много - и в классике и в современных пьесах. Это были Шмага, Юсов, Крутицкий, Мурзавецкий, Загорецкий, Расплюев, Мальволио, Городничий. Он сыграл Хлестакова, Фамусова, Фому Опискина, Чеснока и матроса Шибаева в "Незабываемом 1919-м" Всеволода Вишневского и Горностаева в "Любови Яровой". Не все было равноценно, не все интересно. Хотя бы Горностаев и Шибаев: вспоминая эти роли, не могу их отнести, во-первых, к числу необходимых для Ильинского, во-вторых, - к его удачам. Нет, конечно, художник, живущий в Ильинском, любит такую особую и редко встречающуюся жизненную категорию, как чудаки. В чудаках человек всегда уникален и единствен. Чудак не устанавливается в ряд по ранжиру, никуда не умещается. Тут он больше всего загадочен и больше всего понятен. Когда Ильинский прибегал к стилю пропорциональных линий, уравновешенных действий, играя людей бытовой нормы и здравой логики, он не всегда оставался Ильинским. Его магнитное поле усеяно кинобродягами, Фальстафами, Аркашками, немецкими гувернерами, старосветскими супругами, двумя Иванами из повести Гоголя, ветеранами квартирных баталий Зощенко, Расплюевым и чеховско-чехонтевскими экспонатами жизненных недоразумений, и снизу доверху, как по странной шахматной доске, бегает одержимый манией супружеской измены Брюно, в отчаянье разрушая остатки своей несчастной любви. Удивительно этот актер понимает и владеет трудным ходом странностей человеческого безумия, как просто он складывает несовместимости и легко прочитывает перепутанные шарады и ребусы психологии, у которых, наверное, и нет ключа к разгадке. Но в годы 50-е, пройдя бурный и переполненный ролями период в Малом же театре, Игорь Ильинский перешагнул какой-то заветный порог к интимным тайнам жизни души, редко дающийся даже очень талантливым людям в искусстве. Лучшей среди открытых им душ чудаков оказывается душа Акима из "Власти тьмы" Толстого. Там, где вообще не видели большой художественной идеи, как раз и оказался центр нравственной философии Толстого. Оказался по гипотезе Б. Равенских и И. Ильинского. Но это действительно рубеж. Пока его перейдешь, много соли съешь. Даже мысленно переходится он трудно. Поэтому была естественна реакция удивления, и ее не скрывал, конечно, никто из пришедших на "Власть тьмы" в Малый театр. "Как, неужели, Игорь Владимирович будет играть Акима? У него нет чувства "почвы", актер гротеска, три вора, походка Тапиоки..." и так далее. Ну и что же? Дайте людям поудивляться. Да, мы удивлялись. И было чему удивиться. Если бы не было, то не было бы и чудес. Конечно, в ряду творений Ильинского Аким был нов. Опять новое - и суть, и форма, и актерский язык. Да, совершенно иное во всем - от интонаций до походки, знаменитой "походочки" Ильинского с прямой спиной, вытянутой вперед шеей... Ильинский здесь как бы исчез, как будто все старое сгрузил на какой-то станции и явился свободным. И не первый раз он это делал. И в этот миг бытия художника мы пытаемся охватить его в целом, что очень нелегко. Охватить в целом - это не значит сказать, что в нем всегда жил тот актер, кто создал в 1956 году Акима, - это значит разобраться, в чем новизна этой работы Ильинского, и потом - в том, где его целостность и органичность, этого разноликого актера-художника. И нам кажется в какую-то минуту, что весь Ильинский перед нами, а он ускользает от нашей логики, в какой бы сильный бинокль мы ни пытались его рассмотреть... Роль Акима вдруг стала в спектакле первой по значению, рядом с Никитой. Две силы, между которыми конфликт. Отец и сын - как в библии. Борис Иванович Равенских, в прошлом младший товарищ Ильинского по Театру Мейерхольда, поступивший в своеобразное обучение режиссуре в тот театр, застал тогда Ильинского в зените его славы: вместе работали мало. Ильинский оставил питавшую его альма матер. И теперь встретились в Малом театре. Слава Равенских только начиналась, и отнюдь не в жанре драмы и трагедии: он прославился тогда как постановщик комедий из современного деревенского быта. Деревню он знал, крестьянина знал, душу человека, преданного труду на земле, знал. Любил особой любовью в деревне патриархальность, традиционность, их уже слившиеся с почвой корни и сочетал с этой любовью горькое понимание их бесперспективности и, наверное, даже неполноценности в известном смысле. Умеющий выразить в театре и небо и преисподнюю, Равенских увидел в "городском" актерском колорите Ильинского тайно в нем пребывавшие крестьянские, мужицкие тона и оттенки. Вместе с ним определил, что в истории Акима - и именно Акима - зерно нравственного конфликта пьесы, что здесь, в этой неприметной, невзрачной фигуре крестьянина - заветная мысль Толстого, его надежда на человека. От этого образа и этого элемента драматической структуры идет движение навстречу разрушительной, гибельной теме Никиты, как-то невольно ставшего и соблазнителем, и присвоившим себе чужие деньги, и убийцей собственного дитяти. И продумано воплощение пьесы так, что свет на события, на страдания, на преступления будет падать от Акима, от его внутренней личности, - так естественно связан он с идеей совести и запрета убиения человека. По описаниям, не так была прежде прочитываема "Власть тьмы", во всяком случае, рассказы о старых спектаклях не содержали мысли о том, что Аким - это в пьесе главное. Аким там добр, тих, забит жизнью. Молчаливый, произносящий вместо больших монологов "тае", "ты того", "не тае", но на философию Толстого его, пожалуй, раньше не поднимали. Как надо было взять роль, чтобы в этом скупом словесном материале выразилась, организуя все вокруг себя, толстовская вера в нетленность человеческой совести, в значение нравственного закона, живущего в душе человека, в ненарушимость этого закона, в его корни. И действие спектакля в соответствии с этим строилось так, что против Акима с его знанием истины выступал сильный звериной силой фронт жизни для живота, для утоления страстей и желаний, ради которых можно переступить или растоптать законы совести. Глубоко определенный в спектакле конфликт поднимал драму над бытом, над узкими семейными коллизиями. Есть притча о том, как сын возвращается в отчий дом, который когда-то бросил ради соблазнов сладкой жизни. Он познал сладость - и еще горечь этой сладости, ее осадок, который и заставил его вспомнить, что есть дом, отец, и есть возможность другой жизни. Об этом говорит лучше, чем что бы то ни было, картина Рембрандта, она так и названа - "Блудный сын". С отцом блудного сына в библии меньше связано мыслей, чем с сыном, но Равенских и Ильинский сделали центром своего толкования отца и сопоставили с ним Акима. Отец - Аким - ничем не мог вознаградить сына за его лишения. Он ничего не имел. Ни дома, ни сытой жизни. Он не мог доказать Никите, что у него дома лучше, чем в том Вавилоне, который его сына прельстил и завербовал. Единственным преимуществом жизни Акима была совесть. И надо было все раскрыть так, чтобы в зале поняли цену этого преимущества. Ничего не меняли в тексте и сюжете пьесы ни режиссер, ни актер: они просеяли через свою мысль всю пьесу, все ее словесно-образное построение, прощупали, перебрали ее от начала до конца и нашли подтверждение своего толкования. Надо было в огромном количестве разнонаправленных действий, в многословии всех персонажей, в подробно развертывающейся истории погибели всей нравственной жизни семьи разбогатевшего Никиты Чиликина провести две сцены Акима так, чтобы их превалирующее значение стало очевидным и убеждающим. Надо было создать идее пластически осязаемое воплощение, облечь в совершенную и простую форму душевной гармонии. На противостоящем полюсе спектакля стоял В. Доронин, неожиданно проявивший себя как истинно трагический русский талант. Режиссер дал пищу и форму его темпераменту, не пожалев для него ни сил сценической красочности, ни разработки его внутренней драмы. Но чем ярче вычерчивалось трагическое вокруг Акима, тем больше привлекало внимание, что разящим орудием в борьбе было внутреннее переживание истины, не имеющее активной силы своего выявления вовне. Человеку, верившему в широту и богатство таланта Ильинского, не так уж трудно было поверить в его успех в создании толстовского образа. Но представить себе, что облик Ильинского, его энергичное, четко очерченное лицо, ироническая линия губ, лоб современного шахматиста - все это может превратиться в характернейший тип российского крестьянина прошлого века,- вот что казалось невозможным и не осмысливалось до конца. Думалось, что роль Акима будет сыграна в характерном жанре. И вот вышел Ильинский - Аким. И в зале наступила удивленная и почтительная тишина. Лишь с полотен русских живописцев, любящих и понимающих душу и сердце русского труженика-крестьянина, смотрели на нас такие же тихие, спокойные и вместе с тем такие скрыто страдающие глаза. Преображал эти глаза не только внутренний свет. Их преобразило и совершенное мастерство актера: найденный им характер как будто перестроил самую конструкцию лица, иначе распределил его мускулатуру, сделал на нем заметы иной жизни. Это было лицо человека, привыкшего к труду и терпению, к обманам надежд, к испытаниям разного порядка: оно знало и холод степного ветра, и жар утренних лучей, и бессонный труд, и безнадежность нищеты - все, в обилии доставшееся на долю русского мужика. Лицо человека, рано состарившегося, но не ставшего ни дряхлым, ни равнодушным. Аким Ильинского держал голову немного вверх, как будто привык всегда смотреть на небо - либо чистое и ясное, либо затянутое грядой облаков и туч, и оттого вдоль щек его тянулись чуть заметные складки, они и создавали особый, характерный мученически-терпеливый овал лица этого необычного Акима. И лишь однажды оно становилось суровым. В чем была конкретная - и в чем обобщенная суть этого образа? Главной целью жизни Акима - Ильинского была надежда на возвращение его сыну внутреннего "спокоя", человечности, спасения, как думали когда-то. Главным обобщенным содержанием этого образа было понимание Акимом того, в чем сила человека. Неимущий, ничего не значащий в глазах людского большинства, бесправный перед буквой закона, Аким Ильинского был велик и силен - хотя это так не отвечало внешнему облику - своим презрением к тем благам жизни, ради которых надо было забыть себя, лгать, воровать или убивать невинных. Аким - Ильинский поддерживал в раскаявшемся убийце-сыне его внутреннее прозрение, его желание принять кару за нарушение христианской заповеди - не убий. В забитом деревенском мужике просыпалась духовная сила апостола добра и справедливости: открыть такое содержание роли Акима - значило либо переиначить привычную роль, либо понять до сих пор непонятный замысел Толстого. До сих пор в памяти звучит хриповатый голос Доронина, произносящего с усиленной ясностью, как будто очнувшегося, пришедшего в себя: - Батюшка! Ты здесь? Гляди на меня. Мир православный, вы все здесь, и я здесь! Вот он я! И среди взорвавшегося шума голос Акима: - Говори, дитятко, все говори, легче будет. Кайся богу, не бойся людей! И та самая картина, как будто повторяющаяся вновь: руки отца на плечах сына, склонившего перед ним колени, руки будто охраняют момент покаяния от посягательств его остановить. Потому что только это - очень страшное покаяние - очистит сердце Никиты. - А ты, значит, светлые пуговицы, тае, значит, отойди. Это он околоточному, который спешит ввести в дело свой глухой к человеку, холодный, карающий закон. Аким сыгран в эстетике простоты, строгости и тишины. Но это не та простота, не та тишина, которые освобождают актера от напряжения, от глубоких волнений, от сложности рисунка и необходимости борьбы за внимание сидящих в зале. Когда в природе наступает тишина - это означает сосредоточенность токов земного тяготения: для ее восприятия человек отдает больше сил, чем для восприятия бытового сумбура звуков. К такой форме владения зрителем пришел Ильинский, играя Акима. Не случайно сравнение того чувства, которое вызывает его Аким, с Коломенской церковью в зимний день. Оно принадлежит В. Саппаку и В. Шитовой. И, разумеется, выстроенный в стилистике такой простоты и тишины, образ Акима не выбросил из кладовых Ильинского опыт, который накоплен в период образовывания актера, в период роста и формирования. Аким весь вырисован в яви живописно-пластической техники. Он виден, слышен, ощутим как работа виртуоза, пластически переживающего мир. Не только его лицо, руки, походка, но рубаха, надетая на нем, шапка, бедный, порыжелый от сноса армяк - это все создано, все несет свое значение в малом и великом. В своем перевязанном веревкой одеянии он подобен мужицкому апостолу. Актер предельно сосредоточен на внутреннем, но смотрите, как это внутреннее доходит до нас. Вот как. Идет главная конфликтная сцена, когда Аким слушает постыдное разоблачение того, что творится в семье его Никиты. По мысли режиссера Аким уже поднялся на печь, чтобы отойти ко сну: на улице крутит зимняя вьюга, он зашел к Никите ненадолго, взять у сына денег в долг, чтобы купить лошадь, но остался заночевать. Он сидит на печи и с тоской созерцает происходящее. Его гнетет и давит тот стыд, тот срам, что творится в доме. Но у него нет текста, нет фраз, которые бы передали его состояние и сделали ясным, отчего Аким собрался и ушел в зимнюю ночь, возвратив данные ему Никитой деньги. Вот тогда-то Б. И. Равенских и предложил актеру безмолвное выражение его мыслей. Он сказал: "Сядьте на печь, и постепенно, миг за мигом, сгибайте плечи, превращаясь в комочек, пока голова не коснется колен". Эта безмолвная сцена угнетения Акима стыдом, выгнавшим его в конце концов за дверь, стала ключевым моментом спектакля. И если говорить о специальной стороне, то этот рисунок шел из старого, из связи души с телом (выраженной в мизансцене тела), из того тайного хранилища актерского языка, который никому как будто непонятен, не имеет общей грамматики, но который в настоящем искусстве понятен всем. Это опять был момент, когда мы думали, что угадали Ильинского, что вот он весь отбросил свои старые приемы, "номера", и начал играть просто, нормально, реалистично. Но и тут он ускользнул, ибо и раньше играл реалистично, хотя непросто. Да просто ли он играл Акима! Создал он большой, крупный, обобщенный образ, поднял он толстовскую нравственную философию, а шел он к Акиму со своим богатейшим опытом застигания психологии, когда она не подготовлена, не одета, не ждет своего обнаружения - еще в полусне, еще не собралась с силами: опытом комического актера, опытом короля немых советских фильмов, очень еще незрелых, но полных своеобразного очарования. Через густо разросшийся сад плодов своего воображения шел Игорь Ильинский к Толстому, той роли, которую он играет сейчас, сегодня. Это "Возвращение на круги своя" - пьеса Иона Друцэ, поставленная опять же Б. Равенских. Не бурно, не яростно, а прозрачно, будто вышито все шелковистой нитью, да не простой, а спряденной из человеческого сердца. Нет на свете Равенских, а спектакль живет, знаменуя приход актера и режиссера к высоко поставленной ими самими художественной и нравственной цели жизни. Спектакль об уходе Толстого из семьи, из сверхблагополучной сытой классовой клетки, из поэтической Ясной Поляны, где писались его шедевры, наконец - из жизни. Но как это получилось, трудно определить сколько-нибудь точно, а спектакль оказался о подвиге человека, сумевшего самому себе определить час и перешагнуть порог с достоинством, заимствованным у природы. Не сразу режиссер и актер нашли форму своему решению, не сразу образность восторжествовала над обилием жизненного материала, над множеством тем, вызываемых жизнью Толстого. Но Толстой был самым великим чудаком среди обычных людей. Игорлинский тут попал на свой мотив, на свою сокровенную тему. Он не был мудрецом от рассудка, он был большим мудрым ребенком среди глупых взрослых. Великий писатель Лев Толстой уходил в путь, в бездорожье, в без-домье, как уходил Карл Иванович, потом Аркашка, потом Аким. И сам Ильинский хотел бы так уйти от несовершенства театра. И было еще одно. Толстой в пьесе И. Друцэ, готовя себя к последнему пути, пишет свое последнее произведение, рассказ о волке, сумевшем уйти от преследователей в свой последний час и свободно, добровольно принять веление природы, прекращающей его земное бытие. Волк совершает прыжок в пропасть и погибает свободным. Читая от сцены к сцене исповедь последнего толстовского героя - Волка, Игорь Владимирович не находил для этого выхода из сюжета внутреннего оправдания: ему нужно было сделать необходимой мысль о Волке, образ самого Волка. И однажды молодой режиссер, ассистент главного, Юрий Иоффе сказал, что Толстой завидует Волку. Это была счастливая находка, Ильинский понял: Толстой завидует свободному зверю, его могучей выносливости, его сговору с природой, принимающей свое создание к себе в лоно. "Я связан, я пленен всеми земными скрепами и условностями, а Волк ушел в такую глубь, что некому и попытаться преградить его путь", - говорил про себя Толстой - Ильинский, решаясь на последнее. И интонация живого, острого чувства зависти зазвучала в чтении Ильинского и необычайно повысила эмоциональный заряд. Трудно было бы даже догадаться об этой актерской находке, но тайная цель, тайный смысл, окрасившие речь Толстого, заставили и зрителя в зале ощутить наличие каких-то особых измерений в том времени и пространстве, куда нацеливалась воля Толстого - Ильинского. Да, он уходил от царской России, да, он покидал ее рамки, рвал ее законы, отбрасывал свои обязанности перед ними, но это было бы не столь неожиданной судьбой в истории русской литературы, если бы не то особое измерение, в котором нес свою думу и свою мечту герой Ильинского. Это измерение - своевольно созданный Толстым - Ильинским своеобразный мир, в котором не властвуют законы Российской империи. Это - сверхреальность просторов, по которым бежал мудрый и независимый от всего и всех Волк. К своей, им самим избираемой форме смерти как уходу в неизбежное небытие. Пусть никто не подумает, что Ильинский играл Толстого в прежней технике. Нет. Тонкая кисть, воздух, свет, прозрачный психологизм, естественность чувства и мышления на сцене - и это высокое понимание ухода, прыжка в небытие, переживание своей родственности какому-то необычному, но ощутимому миру чудес, миру, творимому фантазией художника, - вот что создавало особую атмосферу "Возвращения на круги своя". Актер, постигший все секреты сатиры и гротеска, актер, остро типизирующий жизнь, которую подвергает изображению, он приходит к необходимому и для него и для времени прорыву в область нравственно прекрасного, в сферу положительно-прекрасных начал в человеческой личности. Ильинский всегда умел в своем особом гротеске поднять низкие образы до той несомненной комедийной поэзии, благодаря которой его низкие герои, его "пошлые" обыватели не разрушались орудием сатирического отрицания; благодаря чему они и могли выйти за пределы искусства и стать частью интересов самой жизни, жизни не только избранного интеллектуала, но и простого, обычного зрителя "с улицы". Я бы сказала, что он владел в комедии не разрушением, а созиданием - умением средствами смеха дать понять прекрасное в человеке и заставить его беречь, ценить и любить. Даже положительно-прекрасное, по выражению Щедрина. И, открывая положительно-прекрасное в таких натурах, как Аким и Лев Толстой (в какой-то степени с ними может соприкоснуться и его Сабир в "Мезозойской истории"), Ильинский доказывает единство своего мировоззрения и творческого стиля, возможное при самом большом и предельно разном богатстве приемов, идей и отношения к движущемуся времени искусства. И тут сад разросся и увеличился в нашем воображении. Сад Ильинского. В сегодняшний день ворвался первый, наивный, нежный фильм "Аэлита". Роли и образы пошли в наступление. Они выступали из того круга, который очертило им искусство. Они возвращались к нему, к человеку, к Ильинскому. И я поразилась счастливой возможности поворачивать время вспять, чтобы ничто не терялось из созданного. И если нам, получившим от современного актера все, чем он может над нами возвыситься, захочется вернуться в страну беспричинных улыбок, детских затей и веры в нескончаемость времени, мы можем обратиться к молодому Ильинскому. Это будет тот миг, который называется каникулами, - отдых, передышка в полезной деятельности, приобщение к тем особым мирам, что создают большие и нестареющие фантастические таланты. Впрочем, талант всегда фантастика, если он настоящий талант. И старое кино застрекотало своим аппаратом, а в толпу старых московских улиц вмешался ловко-неуклюжий человек из мира фантазии, спеша по своим всем до невероятности интересным делам. (Нина Велехова, 1981)