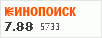ОБЗОР «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО СВЯЩЕННИКА» (1950)
"Дневник сельского священника" ("Дневник сельского кюре").
В небогатый провинциальный приход прибывает молодой кюре, только что окончивший семинарию. Желая помочь людям жить по-евангельски, он сталкивается не только с общим безразличием, но и с враждебностью. Преодолевая силой духа свои физические немощи, кюре вступает в борьбу за души окрестных жителей...
Молодой священник (Клод Лейдю), выпускник духовной семинарии, получивший приход в деревеньке Амбрикур, расположенной на севере Франции, решает вести дневник, предельно подробно описывая произошедшие события, возникающие мысли и чувства. Он искренне, не ограничиваясь формальными обязанностями посланника католической церкви, прилагает усилия в надежде завоевать расположение местных жителей, стремясь помочь, в частности, престарелой графине (Рашель Беран) справиться с мучительными воспоминаниями о погибшем сыне. Однако попытки наталкиваются на стену равнодушия и непонимания, лишь способствуя обострению странного, на первый взгляд - беспричинного физического недуга кюре... (Евгений Нефедов)
ВЕНЕЦИАНСКИЙ КФ, 1951
Победитель: Международная премия (Робер Брессон), Международная премия за лучшую операторскою работу (Леонс-Анри Бюрель), Приз Международной Католической организации в области кино (OCIC) (Робер Брессон), Премия итальянских кинокритиков (Робер Брессон).
Номинация: «Золотой лев» (Робер Брессон).
БРИТАНСКАЯ АКАДЕМИЯ КИНО И ТВ, 1954
Номинация: Лучший иностранный актер (Клод Лейдю, Франция).
ПРЕМИЯ ЛУИ ДЕЛЛЮКА, 1950
Победитель: (Робер Брессон).
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ КИНОКРИТИКОВ США, 1954
Победитель: Топ зарубежных фильмов.
ФРАНЦУЗСКИЙ СИНДИКАТ КИНОКРИТИКОВ, 1952
Победитель: Лучший фильм (Робер Брессон).
По одноименному роману (1936 https://fr.wikipedia.org/wiki/Journal_d%27un_cur%C3%A9_de_campagne) Жоржа Бернаноса.
Читать роман: https://www.rulit.me/books/dnevnik-selskogo-svyashchennika-download-free-58561.html; https://tululu.org/b64325/; http://knigosite.org/library/books/69675; https://royallib.com/book/bernanos_gorg/dnevnik_selskogo_svyashchennika.html; https://libcat.ru/knigi/proza/23958-zhorzh-bernanos-dnevnik-selskogo-svyashhennika.html.
Робер Брессон (1901-1999 https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Bresson) приступил к работе над экранизацией романа «Дневник сельского священника» после того, как Бернанос отверг сценарий, предложенный Жаном Ораншем и Пьером Бостом. После смерти писателя в 1948 проект оказался на грани закрытия, однако благодаря поддержке друга Бернаноса Альбера Бегина (1901-1957 https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_B%C3%A9guin) удалось закончить сценарий и получить финансирование от акционерной компании «Union Generale Cinematographique» (https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_g%C3%A9n%C3%A9rale_cin%C3%A9matographique).
Брессон старался сохранить верность духу романа и извлечь из него самую суть.
К работе над картиной режиссер привлек непрофессиональных актеров.
На роль главного героя из множества кандидатов был выбран молодой бельгийский актер Клод Лейдю (1927-2011 https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Laydu). Это его дебютная работа в кино.
Перед началом съемок Брессон и Лейдю в течение года встречались по воскресениям для обсуждения роли; актер даже жил некоторое время в монастыре.
Съемочный период: 6 марта - 19 июня 1950.
При создании картины использовался живой звук; большое значение для режиссера имели натурные съемки.
В фильме, как и в романе, молодой кюре не имеет имени.
Внутренний мир главного героя, несмотря на отсутствие каких-либо внешних поступков, раскрывается с помощью внутреннего монолога - его дневника.
Особенностью эстетики фильма является создание атмосферы духовного поиска главного героя, что достигается не за счет построения сюжета, а за счет тщательно подобранных деталей, музыки, выстраивания ритма смены сцен. В результате рассказ о жизни героя в дневнике предстает в виде своеобразной медитации, когда постоянное прерывание событий голосом за кадром и исписанными страницами дневника создает ощущение не столько рассказа о происходящем, сколько рефлексии героя на события. Выбор обстановки, в которой живут персонажи, и освещения способствует созданию соответствующей атмосферы в сценах.
Основное действие романа/фильма происходит в Амбрикуре (https://fr.wikipedia.org/wiki/Ambricourt) - коммуне в департаменте Па-де-Кале.
Место съемок: Экир https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quirre, окрестности Эдена https://fr.wikipedia.org/wiki/Hesdin, Торси https://fr.wikipedia.org/wiki/Torcy_(Pas-de-Calais) (Па-де-Кале, Франция).
Транспортные средства, показанные в картине - http://www.imcdb.org/movie.php?id=42619.
Кадры фильма: https://www.cinemagia.ro/filme/journal-dun-cure-de-campagne-jurnalul-unui-preot-de-tara-11508/imagini/; https://www.alamy.com/stock-photo/journal-dun-cure-de-campagne.html; https://www.acaciasfilms.com/film/le-journal-dun-cure-de-campagne/.
Робер Брессон: "Мне хочется, чтобы люди, которые смотрят фильм, почувствовали присутствие Бога в обыденной жизни... Вы можете ощутить нечто... присутствие того, что я называю Богом, но мне не хочется показывать это со всей очевидностью. Я предпочитаю сделать так, чтобы зрители почувствовали это сами".
Во время монтажа трехчасовой фильм пришлось сократить на треть. Брессон решился на это, и в итоге подобное испытание помогло ему окончательно освободить картину от всего лишнего. Позднее он уверял, что произведенные купюры вызывались причинами "чисто художественного порядка".
Цитаты - https://citaty.info/movie/dnevnik-selskogo-svyashennika-journal-dun-cure-de-campagne и текст фильма - http://cinematext.ru/movie/dnevnik-selskogo-svjaschennika-journal-d-un-cure-de-campagne-1950/.
В картине есть отсылки к ленте Карла Теодора Дрейера «День гнева» (1943 ).
Начало проката: 7 февраля 1951 (Франция).
Англоязычное название - «Diary of a Country Priest».
Трейлеры: https://vimeo.com/279668937, https://youtu.be/uYq9_iN7dGA; https://youtu.be/hXLcNxG0OtM, https://youtu.be/ZYN5thtjhUw.
«Дневник сельского священника» сразу оказался в центре внимания кинематографистов, что удивило самого Брессона. И все отклики, за редким исключением, были восторженными.
По мнению некоторых кинокритиков, характер Трэвиса Бикла, главного героя «Таксиста» (1976 ) Скорсезе, частично списан с главного героя этого фильма.
Мадемуазель Шанталь подумывает покончить жизнь самоубийством. Через 7 лет после выхода фильма на экраны исполнительница этой роли Николь Ладмираль (1930-1958 https://en.notrecinema.com/communaute/stars/stars.php3?staridx=44438; https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicole_Ladmiral) сведет счеты с жизнью, бросившись под поезд в метро. Это ее предпоследняя работа в кино.
Обзор изданий картины: http://www.dvdbeaver.com/film/DVDReview2/diaryofacountrypriest.htm; https://www.blu-ray.com/Diary-of-a-Country-Priest/174701/#Releases.
«Дневник сельского священника» на Allmovie - https://www.allmovie.com/movie/v13630.
О картине на сайте Criterion Collection - https://www.criterion.com/films/452-diary-of-a-country-priest.
«Дневник сельского священника» на французских сайтах о кино: http://cinema.encyclopedie.films.bifi.fr/index.php?pk=47123; https://www.unifrance.org/film/1365/journal-d-un-cure-de-campagne; http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=3634.html.
На Rotten Tomatoes у фильма рейтинг 95% на основе 39 рецензий (https://www.rottentomatoes.com/m/journal_dun_cure_de_campagne).
Картина входит во многие престижные списки: «Лучшие фильмы» по мнению Национального общества кинокритиков США (2002); «100 лучших фильмов» по версии журнала Image (23-е место); «Лучшие фильмы всех времен» по версии издания Sight & Sound; «Лучшая десятка фильмов 1951 года» по версии журнала Cahiers du cinema (2-е место); «10 любимых фильмов Андрея Тарковского» (1-е место https://seance.ru/articles/bergman-itarkovskiy/); «Лучшие фильмы» по мнению кинокритика Сергея Кудрявцева; «Рекомендации ВГИКа».
Рецензии: https://www.mrqe.com/movie_reviews/journal-dun-cure-de-campagne-m100033404; https://www.imdb.com/title/tt0042619/externalreviews.
Лоренс Бейкер. Обзор фильма (англ.) - https://youtu.be/uMpXDkTyXKg.
Пол Шредер. «Вероятно, Робер Брессон» (Интервью Брессона, 1976) - http://kinozapiski.ru/ru/article/sendvalues/607/.
Жорж Бернанос / Georges Bernanos (20 февраля 1888, Париж - 5 июля 1948, Нейи-сюр-Сен) - французский писатель, участник Первой мировой войны. Будучи римо-католиком и монархистом, он выступал рьяным противником буржуазного мышления, которое, по его мнению, привело к падению Франции в 1940 году. Сын гобеленщика и крестьянки. Вырос на северо-востоке Франции, в провинции Артуа. В молодости принадлежал к традиционалистскому националистическому движению «Французское действие» (https://fr.wikipedia.org/wiki/Action_fran%C3%A7aise), в период наступления фашизма (в начале 1930-х) порвал с ним и его идеологом Шарлем Моррасом. В 1934-1937 жил на Мальорке. Вначале был близок к франкистам, затем перешел на республиканскую сторону. 1938-1945 провел в эмиграции в Бразилии, в своих печатных выступлениях поддерживал французское Сопротивление. После войны по приглашению Де Голля вернулся во Францию, но отказался от предложенных ему высоких официальных постов и последние годы жил в Тунисе. Подробнее - https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Bernanos.
Ж. Бернанос в библиотеке А. Белоусенко - http://belousenko.com/wr_Bernanos.htm.
Молодой священник, привыкший вести дневник, получает первый приход в селении Амбрикур, в Артуа. Вот уже полгода его мучают боли в желудке, и он питается только хлебом, вином и сахаром. Он часто прислушивается к советам кюре из Торси, которого считает своим учителем: этот кругленький и крепкий человек никому не сочувствует и все говорит напрямик. Кюре из Торси считает своего протеже неразумным мальчишкой - или, по крайней мере, так об этом говорит. Его главный совет таков: «Поддерживайте порядок в течение дня». Мадмуазель Луиза, учительница в замке, которую кюре по прибытии застал в объятиях графа, - единственная прихожанка, усердно посещающая службы. Она говорит кюре, что графиня с ней обращается хорошо: зато свою родную дочь Шанталь - ненавидит. Графиня долго носила траур по умершему ребенку, и эта потеря не может стереться из ее памяти. Молодой священник думал подружиться с графом, но тот просит его поумерить пыл и не строить для своего прихода масштабные планы на будущее. Граф не терпит от кюре замечаний о том, что его дочь Шанталь слишком грустна. На первой встрече с графиней кюре чувствует себя дурно и вынужден удалиться. Он консультируется у доктора Дельбонда, человека неверующего. Тот немедленно диагностирует у пациента тяжкое наследие алкоголизма. К большому удивлению кюре, врач причисляет его, кюре из Торси и самого себя к одной породе: тех, кто всегда готов к худшему. Кюре из Торси отвозит своего протеже в Амбрикур на машине. Он без церемоний критикует его: «Ты слишком много суетишься. В тебе нет никакого здравомыслия». Проходят дни; кюре думает, что Бог его покинул. Он узнает о самоубийстве доктора Дельбонда. Шанталь обещает кюре, что попробует убедить родителей вернуться к прежнему решению и отлучить его от их дома. Она говорит, что хочет вырвать глаза учительнице, презирает свою мать за трусость, больше не уважает отца. Кюре следует интуиции и просит Шанталь отдать ему письмо, которое она прячет в кармане. Она слушается его и спрашивает: «Так, значит, вы - Дьявол?» Кюре сжигает письмо, адресованное графу. В долгом разговоре с графиней кюре заступается за Шанталь и изгоняет из сердца своей собеседницы ненависть к Богу, вызванную смертью ребенка. В тот же вечер графиня отправляет ему письмо, где сравнивает его с ребенком, вернувшим ей покой. Той же ночью она умирает. Граф больше не скрывает враждебности к кюре: он полагает, что тот чересчур вмешивается в чужие дела и представляет угрозу для своего прихода. Кюре вновь впадает в отчаяние и пытается покончить с собой, о чем не осмеливается упомянуть в дневнике. Кюре из Торси неоднократно навещает его. Новые упреки: кюре мало ест и пренебрегает молитвами. Кюре из Торси узнает от Шанталь о его разговоре с графиней. Он обвиняет своего протеже в том, что тот сильно растревожил покойную. Кюре из Амбрикура ничего не говорит в свою защиту и не упоминает о письме, полученном от графини. Ему достаточно знать, что она умерла в душевном спокойствии. Кюре из Торси предостерегает коллегу от невоздержанного употребления дрянного вина. В деревне у кюре вдруг кружится голова, и он падает на землю. Маленькая Серафита Дюмонтель, вечно донимавшая его своим дурным характером, вытирает ему лицо и помогает вернуться домой. Все вокруг считают его пьяницей. Он решает поехать на консультацию в Лилль. Кузен Шанталь Оливье отвозит его на вокзал на мотоцикле. Короткие минуты радости: кюре чувствует себя молодым, как и его спутник. Оливье предлагает ему свою дружбу; священник очень напоминает ему товарищей по «Иностранному легиону». Врач выносит роковой приговор: рак желудка. Кюре навещает бывшего однокашника по семинарии Дюфрети, который отказался от священнического призвания. Он живет с девушкой, которая ведет его хозяйство, но, по его словам, ничего не стоит в смысле «интеллектуального развития». Кюре чувствует себя все хуже. Кюре из Торси присутствует при его агонии. Молодой священник шепчет ему на ухо свои последние слова: «Все - благодать». (Жак Лурселль)
[...] Фильм снят по роману Жоржа Бернаноса, и средствами кино облекает слово в плоть. Суть христианской веры трансформируется в изображение и звуки, игра со смертью, борьба с желанием, внутренние порывы души - все это претворяется в реальность средствами этого выдающегося фильма. («Кино-Театр.ру»)
[...] - А Бернанос? Р. Брессон: Фильм «Дневник сельского священника» был заказной работой. Прочитав роман, я отказался, но через месяц, польщенный оказанным мне доверием, прочитал снова, более внимательно, и наравне с местами, которые я спокойно мог удалить, мне явились другие поразительные места. Написанный мною сценарий, чрезвычайно близкий к книге (покойный Бернанос, умерший незадолго до этого, пугал меня больше, чем живой), был не понят продюсером, и мне пришлось потратить целый год на поиски нового. Вот вам пример недопонимания между мной и продюсером. [...] (Отрывок из книги «Брессон о Брессоне», 2017)
Когда в 1951 году Брессон снял «Дневник сельского священника», весь кинематографический мир застыл в изумлении. От простого воссоздания обыденной действительности Брессон сделал решительный шаг к созданию действительности собственной. В «Дневнике» молчание важнее слов, неподвижность важнее действий, состояние важнее сюжета. Если мы вспомним труд великого православного богослова и ученого Павла Флоренского «Иконостас», то можем прийти к выводу, что кинофильмы Брессона имеют одну очень важную черту, схожую с православными иконами: они не отражают падающий на них свет, а словно сами его излучают. (Можно утверждать, что таким же свойством обладают «Земля» Александра Довженко и «Евангелие от Матфея» Пьера Паоло Пазолини). (Касым Орозбаев, «Православие и Мир»)
[...] Пример истинного кинематографиста для меня Робер Брессон. «Дневник сельского священника» я считаю великим фильмом. Брессон делает картины, когда у него возникает к тому потребность. Замыслы диктует ему его совесть художника, его идея. Он творит не для себя, не для признания, не для похвал. Не думает о том, поймут его или нет, как оценит его пресса, станут или не станут смотреть его фильм. Он повинуется лишь неким высшим и объективным законам искусства, он чужд всех суетных забот, и трагическое пушкинское «поэт и чернь» от него далеко. Поэтому картины Брессона обладают простотой, благородством, поразительным достоинством. Брессон единственный, кто, сумев выдержать испытание славой, остался самим собой. [...] (Андрей Тарковский. «Уроки режиссуры». Читать полностью - http://snimifilm.com/statyi/andrei-tarkovskii-uroki-rezhissury-chast-1-intervyu-menya-bolshe-vsego-udivlyaet)
Фильм Робера Брессона «Дневник сельского священника» именно тот случай, когда проживая два часа реального времени вместе с героем ленты, не знаешь, как прожить остаток жизни. Духовность фильма, вопросы выбранного пути, путь Верующего человека и путь священника, правила и устои общества, что из них правильно и что неустойчиво? Вопросов много и режиссер не дает прямых ответов, как в принципе, не смог бы дать ни один смертный... Людям не нравится смотреть в зеркало идеалов, а в данном случае идеала человека, стоящего между Богом и людьми, и не принимающим ни правил общества людей, ни общества священников. В зеркальном отражении проступают собственные недостатки, искажая наши мнимые «лица», наше самомнение, наше Я. Вполне естественно, что защитная реакция человека общества на увиденное в зеркале - разбить, уничтожить, стереть... Вот именно таким невеселым образом и устроен человек, т.е. Мы с Вами - общество. Общество, в слепом непонимании, безразличии и черствости которого, столетиями уже как горят и, увы, будут еще долго гореть книги, картины, судьбы и... и Вера. («CatholicTube»)
[...] Жорж Бернанос - французский писатель и публицист католического направления первой половины XX века. Им написан ряд романов, главными темами которых являются осуждение зла в современном буржуазном обществе, кризиса «европейской души», безверия и опустошенности современного человека. Для творчества Бернаноса характерен мистицизм; фанатический экстаз в его произведениях контрастирует с реалистическими характерами и образами, в которых ощущается влияние Бальзака. Любопытна характеристика, которую И. Г. Эренбург дает Бернаносу: «Я писал в 1944 году: «Французский писатель Жорж Бернанос, воинствующий католик, с негодованием отвергая попытки некоторых демократов заступиться за фашизм, пишет в «Ля Марсейез»: «До войны значительная часть общественного мнения в Англии, в Америке, во Франции оправдывала, поддерживала, восхваляла фашизм. Я повторяю - не только допускала фашизм, но ему способствовала в надежде, скажу глупой, контролировать эту чуму, использовать ее против своих соперников и конкурентов... Мюнхен не был просто глупостью. Мюнхен был подлой развязкой спекулянтской затеи...» (И. Эренбург. «Люди, годы, жизнь. Собрание сочинений в девяти томах», т. IX, стр. 294). [...] (Из книги Ирины Медведевой «Франсис Пуленк», 1969)
И увидел он, что это хорошо: Любимые фильмы священнослужителей. [...] Священник Олег Батов, Москва: Задача рассказать о светских и религиозных фильмах сложная. Как отделить светское от религиозного? Вот «Солярис» Тарковского - это светское или религиозное? Будем считать, что светское, но на самом деле фильмы, в которых нет явной религиозной тематики, могут быть религиозны по своей сути. Сложно и выбрать всего по одному фильму. Но я попробую. Если выбирать один фильм религиозной тематики, то «Дневник сельского священника». Классика, Робер Брессон, любимый фильм Андрея Тарковского. Этот фильм был снят, для того чтобы показать суть служения священника и суть веры. Насколько я знаю, и Брессон, и исполнитель главной роли Клод Лейдю, совсем неизвестный актер, очень глубоко изучали жизнь монастырей. Лейдю, готовясь к съемкам, даже жил в монастыре. В фильме много сцен, в которых играют не актеры, а просто жители деревни, что создает особую атмосферу подлинности. Главный герой, молодой священник, совсем не является рыцарем веры без страха и упрека. Его жизнь и смерть явным образом ничего не меняют в жизни деревни, куда он был отправлен после семинарии на служение. Люди не стали жить иначе, они живут так же, как и до него. При этом он настоящий праведник, тихий, незаметный. В этом и суть этой незаметной праведности. [...] (Ирина Воскресенская, «КиноПоиск»)
Кинематограф Робера Брессона вне времени, места и действия (110 лет со дня рождения мастера). [...] Все последующие работы мастера [после «Дам Булонского леса», 1945] насколько возможно очищают действие от шелухи диалогов, вещей и мизансцен, оставляя едва ли не чистую последовательность форм, призванную точно выразить идею. Образцовые примеры, неоднократно разбиравшиеся критиками (не рецензентами!) от Андре Базена до Жиля Делеза, - «Дневник сельского кюре» (1951) и «Приговоренный к смерти бежал» (1956). Молодой священник, соотнесенный с самим Христом и приносящий себя в искупительную жертву, с одной стороны, и участник Сопротивления, совершающий безнаказанный побег из тюрьмы, с другой, делают, по сути, одно и то же. Экзистенциальный выбор не имеет альтернативы: быть свободным - единственное предназначение человека, и в духовном отношении безразлично, каков инструмент обретения свободы - скорая смерть или, напротив, ее счастливая отсрочка. Как писал Делез, проводя генеалогию Брессона от Паскаля и Кьеркегора, "есть такие типы выбора, когда его можно сделать, лишь убедив себя, что выбора нет, в силу необходимости - иногда моральной (благо, долг), иногда физической (положение вещей), а порою физиологической (желание что-то иметь)". Персонажи противоположны по заданным условиям, но их траектории вступают в отношения зеркального подобия, а финал един и единственно возможен. [...] (Ян Левченко. Читать полностью -http://www.cinematheque.ru/post/145351/1)
Снятый в 1951 году, «Дневник сельского священника» - первый стопроцентный брессоновский фильм. В нем сформировался режиссерский стиль, названный Полом Шредером «трансцендентальным». Аскетизм изображения, вглядывание в «простые вещи», внимание к мельчайшим движениям персонажей, постоянно звучащий закадровый текст, использование непрофессиональных актеров - все это появилось в «Дневнике сельского священника». Однако Брессон будто еще не верит в возможность говорить о божественном, используя чисто кинематографические средства. В «Дневнике сельского священника» персонажи ведут постоянные и мучительные споры о религиозных и этических проблемах. Будто бы в обитателей французской провинции (фильм снимался на натуре, в департаменте Артуа - глушь, по французским критериям) вселился дух героев Достоевского. Неудивительно: «Дневник сельского священника» снят по роману весьма неортодоксального католического писателя Бернаноса, преклонявшего перед Достоевским. (Романы Бернаноса, кстати, Брессон успешно экранизировал и в дальнейшем). История жизни и смерти молодого священника, столкновение бескомпромиссной веры с реалиями провинциальной жизни составляют сюжет фильма. Впрочем, о сюжете следует говорить осторожно; сам Брессон утверждал: «Внешнее действие служит только для того, чтобы иллюстрировать действие внутреннее». Фильм разделил критиков на ярых поклонников брессоновского кинематографа (Андре Базен) и его ожесточенных оппонентов (Адо Киру; критика особенно возмутила «тавтологичность» фильма: дело в том, что зритель сначала видит на экране запись в дневнике, рассказывающую о каком-то событии, затем слышит голос, читающий эту запись, а после этого видит само происшествие). О философии фильма, о соотношении милосердии божественного и человеческого, спорили философы и писатели. Но после фильма в памяти остаются не рассуждения персонажей (весьма интересные и небанальные). В памяти остаются простые вещи: бутылка на столе, хлеб, размоченный в стакане с вином, кухонная утварь на стене, лужи на деревенской улице, измученное бледное лицо героя, черный крест на серой могильной плите. Простые вещи, одушевленные гением Брессона. (Леонид Цыткин, «Погружение в классику»)
Наряду с «Карманником» (1959 ), - это самый удачный фильм Робера Брессона. Фильм порывает с традицией литературных экранизаций, основанной на последовательности сцен, чаще всего замкнутых на себе и сильно драматизированных. Экранизация романа Бернаноса, выполненная Брессоном в одиночку, составлена из последовательной цепочки мгновений, постепенно выстраивающихся в крайне чистую, но и крайне насыщенную мелодичную линию. Здесь можно говорить об обеднении, поскольку в основе фильма заложено подлинное и огромное богатство, преображенное, благодаря сдержанности и духовной напряженности стиля, в нечто вроде очищенного экстракта, в котором (впервые у Брессона) гораздо больше от музыки или живописи, нежели от театра. Это не мешает тому, что персонажи и характеры показаны очень четко и обладают несравненной убедительностью и силой. Все актеры фильма, включая эпизодических, совершенно незабываемы. Кюре из Амбрикура целиком и полностью принадлежит к породе брессоновских героев. Как и многие из них, он страстен, упрям, напутан, так хочет объять весь мир, что помимо своей воли становится изгоем и маргиналом. Один лишь герой «Карманника» уходит в изгнание, чтобы набраться опыта. «Дневник сельского священника» в особенности оригинален тем, что его конструкция, верно следующая книге Бернаноса, является самой плотью его смысла. Эти мгновения, фрагменты дневника, где значима каждая деталь, жизнь, прожитая и переосмысленная в сознании и душе священника, погружают зрителя в глубины сознания героя и мешают судить его. Хотя большинство персонажей, которых встречает священник, не удерживаются и высказывают свое мнение о нем, сам зритель не может этого сделать и остается пленен его бесконечно грустной судьбой и трагическим духовным путем. Запертый в самом сердце жизни и размышлений героя, зритель участвует в таинстве, но до конца не может его понять. Великолепна работа с черно-белым изображением, выполненная оператором Леонсом-Анри Бюрелем. Фотографии со съемочной площадки, сделанные Роже Корбо, также превосходны.
Библиография: Andre Bazin, «Le journal d'un cure de campagne et la stylistique de Robert Bresson» в журнале «Cahiers du cinema», N3 (1951); перепечатана в томе «Что такое кино? II» («Qu'est-ce que le cinema? II», Editions du Gerf. 1959). Albert Beguin, «L'adaptation du Journal d'un cure de campagne» - в журнале «Glanes», N18 (1951). (Жак Лурселль. «Авторская энциклопедия фильмов», 1992)
"Дневник сельского священника", один из самых знаменитых фильмов Робера Брессона, что-то вроде "производственного фильма": тягостная, сумрачная драма. В центре повествования - совсем еще юный кюре, получивший по распределению приход во французской глубинке. Брессон относится с бесконечным уважением к любому труду. Он уверен, что труд приходского священника - тяжелый труд. В конце концов, мы все живем в "юдоли печалей", здесь всем приходится тяжело, и это касается даже таких бездельников, как графская семья, также входящая в пределы компетенции кюре Амбрикура. "Вы слишком печальны", - говорит многоопытный коллега, обретающийся по соседству - дородный, пожилой мужчина, который прекрасно разбирается в людях. Эти его слова следует понимать так, что местной публике не нужна духовность. Им требуется веселый, понятливый пастырь, снисходительный к слабостям, свойский, чья деятельность ограничивалась бы лишь привычной всем ритуальностью, да приветствиями. Клод Лайду создает сложный, интересный образ священника, который, будучи в обществе изгоем, тем не менее, исполняет свой долг посредника между Богом и человеком. Он, этот сомневающийся, не находящий в себе сил молиться, беспрестанно ищущий знамений (единичное снисхождение "прозорливости" больше напоминает случайность), хрупкий и болезненный человек помогает графине сбросить с себя апатию, длящуюся годами, примириться с собой и с Богом, хотя это приводит к скандалу (графиня умирает той же ночью) и ставит его в еще более затруднительное положение. В Индии до сих пор, пусть и в значительно сглаженном виде, существует кастовая система. Мир, который показывает Брессон на экране, это тоже в какой-то мере кастовый мир. Случайная встреча кюре с племянником графа, боевым офицером Иностранного легиона, кое-что ему проясняет. "Мы бы могли подружиться, - говорит молодой офицер. - Армия, как и церковь, закрытая система, у которой свои правила. Кстати, ординарец нашего полковника - бывший священник". У французских "браминов" (жрецов) и "кшатриев" (воинов) разные боги. Раз Бог позволяет убивать солдат только потому, что они солдаты, лишнее богохульство по адресу "чужого бога" погоды не сделает. Бойцы сами создают себе бога. Создают из чего угодно. "Булыжник как булыжник, но он может быть обагрен очистительной кровью", - поясняет офицер. Но главное, что обе эти системы принципиально отчуждены от мещанского мира, поэтому кажутся ему враждебными. Подобно сталкеру, кюре требуется немало мужества, чтобы входить день за днем в косный мiр и пытаться изо дня в день донести до него "свет истины". "Брамины" и "кшатрии" потеряли свою привилегированность в условиях послевоенной и постиндустриальной эпохи, но, потеряв привилегированность, остались обособленными кастами, которым по-прежнему необходимо взаимодействовать с "низшей кастой" и как-то влиять на нее. Брессон снял подлинную трагедию: человек сумел сделать так, чтобы с богом примирился его подопечный, но не смог примириться с богом сам. Оценка: 4/5. (Владимир Гордеев, «Экранка»)
Молодой священник, вчерашний выпускник духовной семинарии, получает приход в маленьком городке Амбрикуре. Юноша страдает желудком, оттого мало ест, плохо выглядит, и вообще производит на свою паству очень неоднозначное впечатление. Прихожане подтрунивают над кюре, распуская о нем нелестные слухи. Но он не намерен сдаваться, решая нести свой крест до конца. Внутренние сомнения, страхи, переживания он излагает в методично заполняемом личном дневнике. Смерть графини, уважаемой в Амбрикуре женщины, не оставляет шансов на примирение. В случившемся жители городка винят священника, ведь именно он за день до трагедии имел продолжительный разговор с усопшей... Пожалуй, именно после этой экранизации романа Жоржа Бернаноса стало ясно, что в поствоенной Европе появился еще один большой режиссер. «Дневник» стал для Брессона не просто началом восхождения на мировой киноолимп, но и своеобразным мерилом, сравнения с которым не избежала ни одна последующая картина. Нечто подобное было и с Орсоном Уэллсом («Гражданин Кейн»), с той лишь оговоркой, что для француза картина не являлась дебютом. В фильме без труда «читаются» одни из центральнообразующих постулатов творческой вселенной режиссера - преднамеренный аскетизм в подаче материала, тонкое чувство литературного первоисточника и мощный этический пафос. Уникальное сочетание этих составляющих рождает уникальность режиссерского видения, своеобразие которого становится очевидно при знакомстве с любой картиной Брессона. В этом смысле, «Дневник сельского священника» - прекрасный путеводитель-энциклопедия, способный поведать о своем создателе если не все, то очень многое. В то время как известнейший певец человеческого отчуждения Микеланджело Антониони только нащупывал свой фирменный стиль и проблематику (первая удачная попытка - «Подруги» 1955 года), французу удалось показать всю беспомощность индивида в ситуации тотального недоверия со стороны почти враждебного окружения. Благодаря уже отмеченному визуальному аскетизму, Брессон остался как бы вне сюжетной схватки двух мировоззрений. Он не сочувствует кюре, но и не оправдывает горожан. Оценочные суждения и вердикты целиком и полностью остаются на совести зрителей. Единственным «но» (на фоне многочисленных и неоспоримых плюсов картины) со стороны современного зрителя может стать растекшаяся по всему повествованию скука. Смотреть Брессона и вправду скучно, томительно и местами откровенно тоскливо. Режиссер не пытается завлечь зрителя стандартными кино-аттракционами, не борется за его внимание. Спокойно, размеренно, не спеша, Брессон рассказывает о том, что интересно ему самому, и наверняка будет интересно кому-то еще. Вся прелесть «Дневника» - в его послевкусии, когда незамысловатый на первый взгляд сюжет, добротная игра непрофессионалов вызывает бурю эмоций, и, главное, размышлений об увиденном. Как показало время, почитателей подобной «скукоты» с каждым годом становится все больше и больше. А это, куда важнее венецианского Гран-При, полученного картиной в далеком 1951 году. (Станислав Никулин, «Киномания»)
Настойчиво отстаиваемая Робером Брессоном мысль о необходимости привлечения моделей, которых он противопоставлял актерам, многими воспринималась недоуменно - отголоском законов монтажно-типажного кинематографа 1920-х (хотя провести параллель с идеями Льва Кулешова, думаю, будет исключительно полезно), которые в одночасье устарели с приходом звука. Дескать, какой архаизм и унижение для лицедеев, получивших такую мощную и в известном смысле универсальную технику, как метод Константина Станиславского, не желая отныне оставаться бездушным инструментом (подобно глине в руках гончара) осуществления режиссерских замыслов. Однако в брессоновском понимании природы исполнителя, который обязан не казаться, не изображать перед камерой кого-либо («становиться поочередно Аттилой, Магометом, банковским служащим, дровосеком»), включая себя самого, а быть, в каждом выражении лица, жесте, слове неосознанно обнажая свое естество, на поверку гораздо больше неподдельного уважения к его личности, чем у коллег, эксплуатирующих эффект узнаваемости кинозвезд. Причем главное заключается в подчинении указанного ограничения важной установке кинематографиста (приверженца кинематографа и противника кино, как заснятого на пленку театра) на познание чужого внутреннего мира, с одной стороны изучаемого скрупулезно и всесторонне, словно в научной лаборатории, очищенной от всего лишнего, а с другой - объективно остающегося неотъемлемой частью общества, природы, Вселенной. Подобные рассуждения показались бы умозрительными и схематичными, если б претендовали на самостоятельное (абстрактное) теоретическое исследование, а не являлись попыткой осмысления параллельно предпринимаемых практических шагов - во всяком случае начало знаменитых «Заметок о кинематографе» (1975)1 датируется 1950-м годом, когда режиссер уже осуществил три постановки и, нащупывая собственный путь художника, работал над экранизацией одноименного романа Жоржа Бернаноса. В «Дневнике сельского священника» эстетические построения Робера Брессона отмечены, пожалуй, максимальной чистотой и совершенством, и остается только поражаться тому, как органично2 фильм, резко контрастирующий с тогдашним потоком кинопродукции и в стилистическом, и в тематическом отношении (да и по-прежнему стоящий особняком в истории киноискусства), вписался в мировой культурный контекст. А Клод Лейду (как и позже Франсуа Леттерье и Доминик Санда), покоряющий редкостным, немыслимым самораскрытием, словно исповедуясь духовнику или же действительно излагая сокровенные мысли на страницах дневника, вскоре получит массу интересных предложений, вплоть до роли цезаря Валентиниана, - но уже как актер, а не модель. На мой взгляд, даже в картине «Приговоренный к смерти бежал» (1956), остроактуальной по содержанию и частично основанной на собственном опыте нахождения в немецком плену, Брессон не достигнет столь безупречно точного и исчерпывающего постижения духа времени, как в этой скромной и совершенно частной истории безвестного, так и оставшегося для публики безымянным сельского священника. Почему вдруг обращение к роману скончавшегося двумя годами ранее католического писателя - в тот момент, когда большинство интеллектуалов уже не принимало христианство всерьез, отдавая предпочтение «светским» (марксистским, позитивистским, психоаналитическим и т.д.) философским концепциям? Разве допустимо было обособляться от предгрозья неумолимо надвигавшейся войны тогда, в процессе написания книги в 1938-м, и от памяти о ней по истечении нескольких лет? О каких сугубо религиозных вопросах можно вообще вести речь в середине XX столетия - века жестокого, всеобъемлющего противоборства идеологий?.. Собственно, состояние церкви как института было не лучше, чем у прихода в Амбрикуре, бедного, почти лишившегося паствы и вызывающего скепсис, насмешки, а то и откровенное возмущение (вспомним инцидент с месье Фабрегаром, выказывающим недовольство высокой стоимостью погребального обряда) простых людей. А между тем Брессон одним из немногих3 отважился ответить на вызов, брошенный экзистенциалистами, которые, пожалуй, наиболее емко и жестко сформулировали вопрос о смысле человеческого существования в эпоху, когда, по словам Фридриха Ницше, «Бог умер». Грубо говоря, вся деревня (от четы аристократов до девочки-вундеркинда Серафиты, изощренно глумящейся над святым отцом) - модель мира - оказалась заселена примерно такими же персонами, как «посторонний» Альбера Камю, искренне недоумевающий по поводу действий пастора, призывающего раскаяться накануне казни. Притом постоянное присутствие смерти, методично забирающей окружающих людей и неумолимо подступающей к самому рассказчику, очерчено ничуть не менее навязчиво и пугающе. Уже не спрячешься за предписываемыми Евангелиями таинствами, не вызывающими ровно никакого интереса даже у детей, а средства контроля над паствой, отработанные Ватиканом за века господства, представляются абсолютно непригодными в новых, изменившихся условиях, и кюре откажется изложить на бумаге содержание конфиденциальной беседы канонику, присланному монсеньором. Согласно Бернаносу и Брессону, ему надлежит пройти собственное восхождение к высотам духа, направить все отпущенные Господом силы на помощь ближним, коих следует возлюбить, как самого себя, терпеливо и без роптаний донести тот самый крест, тенью которого завершается фильм. И только через это, через персональный вклад в установление Царства Божьего на Земле (хотя бы в достижение несчастной женщиной состояния умиротворенности) возможно спасение собственной души. Частный стилистический прием, описанный выше, отзывается на посыле всего произведения, которое тоже обязано «быть», а не «казаться», и не случайно Андрей Тарковский, лестно высказывавшийся о французском мастере и включивший его шедевр в число десяти лучших фильмов всех времен, затем вложит в уста Альтер-эго фразу о том, что книга - это поступок. Кто из бывших соучеников по семинарии оказался прав, кто избрал стезю праведника: Луи Дюфрети, предпочетший миссии персональную интеллектуальную эволюцию, или его посетитель, накануне узнавший о смертельном диагнозе? Думаю, ответ очевиден для любого, кто достаточно внимательно следил за бесхитростными перипетиями недолгой практики физически немощного, отягощенного плохой наследственностью (предполагаемый алкоголизм родителей усугубляет дешевое вино, промоченные в котором куски хлеба только и принимает больной желудок юноши) сельского приходского священника, чей приоткрытый внутренний опыт помогает зрителю узреть утаенную, параллельную - трансцендентную, духовную, эфирную, телепатическую - сторону протекающей жизни, бережно описываемой в дневнике. Авторская оценка: 10/10.
1 - Опубликованы у нас в брошюре «Робер Брессон. Материалы к ретроспективе фильмов, декабрь 1994» (М.: Музей кино, 1994, стр. 6-43). 2 - Международный приз МКФ в Венеции, премия Луи Деллюка и ряд иных наград - сугубо внешние свидетельства признания. 3 - Среди единомышленников следует назвать датчанина Карла Теодора Дрейера («Слово», 1955), хотя Робер и резко разойдется с ним во взглядах на феномен Жанны Д'Арк. (Евгений Нефедов)
«Дневник сельского священника» - экранизация одноименного романа Жоржа Бернаноса. Первый вариант сценария, написанный Жаком Ораншем и Пьером Бостом, не удовлетворил романиста. Тогда за дело берется режиссер Робер Брессон и строит сценарий в точном соответствии с романом. Но в 1948 году Бернанос умирает. Еще несколько месяцем Брессон трудится над сценарием, пишет дополнительные диалоги. Во всем, что касается религиозной стороны, его работа получает полное одобрение аббата Пезериля, личного друга Бернаноса и его душеприказчика. В романе прослеживалась история нищего сельского кюре, вступившего в борьбу за души «сильных мира сего». Он сталкивается с непониманием, враждебностью не только обитателей соседнего замка, но и священнослужителя. Обреченный на гибель, хилый телом, но сильный духом, он проходит свой крестный путь и умирает победителем, с сознанием своей моральной победы. «Что это за книга? - спрашивает Рене Деланж. - Единственный в своем роде роман о милосердии, о человеке, который отдался милосердию. Бернанос выдвигает факт и проблему встречи с Господом, который предлагает нам прощение, требуя взамен лишь принятия его воли и согласия его любить. Священник из Амбрикура приобщился к этому таинству, составляющему единственное богатство его бедной жизни. Сам того не зная, он несет в себе это таинство, гораздо более важное, чем его апостолическая миссия; на этой почве и возникает конфликт священника с его приходом и со всем миром». Трагическая и трогательная история бедного кюре целиком происходит в душе героя романа. «Внешнее действие, - говорил Брессон, - служит только для того, чтобы иллюстрировать действие внутреннее». Фильм населен персонажами, с их страстями и тревогами, которые окружают эту душу и приходят с ней в соприкосновение: хозяйка замка, граф, графиня, учительница, маленькая Серафита и священник из Торси... Разумеется, продюсера для такого фильма найти было нелегко. Брессон обивал пороги, терпеливо ждал, спорил, убеждал. Продюсеры отказались финансировать явно ненадежную с кассовой точки зрения экранизацию. Брессон не пошел на уступки и при материальной поддержке друзей начал ставить фильм. Брессон долго искал исполнителя главной роли. Он пробовал сотню актеров, отвергая всех, кому недоступна вера, и нашел наконец никому не известного Клода Лейдю. Приехав из Брюсселя, чтобы «играть в театре» у Барро, он проработал несколько месяцев в Сент-Этьене. Брессон по-особому относился к актерам (начиная с «Дневника» он навсегда отказался от профессионалов), считая изощренную актерскую игру, как, впрочем, и другие ухищрения кино, «экранами», мешающими зрителю проникнуть в суть. Брессон замечает: «Между ними (актерами) и мной телепатические обмены и взаимосвязи». Такая связь возникла, видимо, между ним и двадцатичетырехлетним швейцарцем Клодом Лейдю, с которым он более года встречался по воскресеньям, чтобы увлечь его ролью и помочь создать живой образ. Несколько недель Лейдю провел в кругу молодых священников, усваивая их манеру поведения, жесты; во время съемок актер голодал, как и его герой, а сутану он одолжил у человека, который ее довольно долго носил. Большинство исполнителей «Дневника...» дебютировали в кино. На роль «Хозяйки замка» Шанталь, подумывающей о самоубийстве, была выбрана Николь Ладмираль, совсем молодая девушка, уверяющая, что ей двадцать лет, но, безусловно, еще не достигшая этого возраста. Жизнь актрисы завершилась трагически: через несколько лет Ладмираль покончила с собой. Съемки «Сельского священника» проходили с 6 марта по 19 июня 1950 года. Штаб-квартира киногруппы расположилась в городке Эден. Замок превратился в настоящую киностудию. Несколько комнат были обставлены и декорированы в соответствии с требованиями фильма. Ежедневно с девяти утра здесь собиралась для работы вся группа. Другие комнаты были превращены в канцелярию, а одна - даже в столовую, и в ней все завтракали, чтобы не терять времени. Снимали преимущественно в деревушке Экир, расположенной в департаменте Па-де-Кале. Брессон избрал этот грустный утолок, чтобы остаться верным описанной в романе обстановке и памяти Бернаноса. Амбрикур и Торси, где происходит действие «Дневника», - деревни по соседству с Экиром. Съемки проходили также в замке герцога де Реджо, в церкви и школе, превращенной в дом сельского священника. Робер Брессон обладал несгибаемым упорством, волей. По словам побывавшего на съемках киноведа Лепроона, режиссер буквально выматывал актеров, как бы лишая их собственной сущности, чтобы наполнить другой, соответствующей воплощаемому образу. Работа Клода Лейдю была настоящим подвижничеством. Один и тот же план снимался двадцать, тридцать раз, пока жест и произносимые слова не удовлетворяли режиссера. После первого монтажа пришлось сократить трехчасовой фильм на треть. Брессон решился на это, и в итоге подобное испытание помогло ему окончательно освободить свой фильм от всего лишнего. Позднее он уверял даже, что произведенные купюры вызывались причинами «чисто художественного порядка». «Дневник сельского священника» - фильм по преимуществу «литературный». Брессон старался сохранить верность духу романа и извлечь из него самую суть... Брессон и на этот раз идет от выразительных средств к композиции и передает литературное содержание в литературной форме. Он перенес на экран дневник, страницу за страницей, причем сознательно пошел на риск тройного воспроизведения одного и того же сюжетного элемента. Выглядело и звучало это совершенно непривычно. Сначала на экране показывается крупно страница дневника, куда рука кюре вписывает текст, одновременно его же голос за кадром повторяет эти же слова, а затем зритель оказывается на месте тех событий, о которых читает в записи, а голос продолжает монотонно рассказывать то, что происходит. Таким образом, каждый эпизод проходит перед зрителем трижды. Синтез всех этих усилий создает необычайную драматургическую напряженность «Дневника сельского священника», разрешающуюся в финале смертью кюре и его последними словами, бросающими отсвет на весь фильм: «Все - благодать». В течение пяти минут черный крест на белом фоне заполняет весь экран, а в это время звучит рассказ о последних минутах и последних словах священника, после чего на кресте возникает слово «конец». «Дневник сельского священника» сразу оказался в центре внимания кинематографистов, что удивило самого Брессона. И все отклики, за редким исключением, были восторженными. До того, как фильм был выпущен в прокат, его показали жюри премии Луи Деллюка. Когда с экрана сошел последний кадр - черный крест на белом холсте, - воцарилась тишина, страшная, подавляющая, как после сильного потрясения. На другой день «Дневник сельского священника» получил премию Деллюка. [...] (Игорь Мусский, «100 великих зарубежных фильмов»)
Философско-религиозная драма. На первый взгляд, Робер Брессон может показаться самым объективистским режиссером мира. Его словно не интересуют собственные герои и все, что с ними происходит. Брессон просто снимает кино, и его фильмы - это мелькание света и тени на белом полотне. Как будто двухмерное пространство экрана - единственная реальность. И самое главное - запечатлеть мгновение, когда часть предмета или же лица человека освещена, а другая часть еще находится в тени. Кажется, нет ничего важнее ритма движения фильма, плавной смены кадров - то коротких, то длинных. Один кадр уходит в затемнение - как в небытие. Именно в небытие. Ведь этого кадра больше уже не будет. Но будет другой. А затем - третий, четвертый... И все они будут умирать какой-то печальной смертью, словно со вздохом уходя в темноту. Однако вновь и вновь из затемнения будет рождаться следующий кадр - и свет будет заливать весь экран... Киноленты Робера Брессона - это музыка света и тени, поэзия коротких и длинных кадров. И все-таки он - один из самых исповедальных, открытых, обнаженных, нервных художников. Контраст света и тени - это контраст добра и зла, веры и безверия, радостей и страданий, душевности и холодности, чувств и мыслей. Действие картин Брессона происходит в крайних, пограничных ситуациях - у смерти на краю. Жизнь - это свет. Смерть - это тьма. Но и в жизни много тьмы - может быть, больше, чем света. К чему эта жизнь? Лучше умереть и найти успокоение. Фильмы Робера Брессона - это не только мучительные раздумья его героев о том, что выбрать: жизнь или смерть? Это муки самого автора. Брессон делает свои ленты долго, мучительно - будто и не снимает, а пишет пером по своему сердцу. И попеременно обращается то к Богу, то к человеку. Пожалуй, лишь Ингмара Бергмана мучает этот же неразрешимый для творца вопрос. Порой он готов поверить в человека и в жизнь. Но бергмановские герои, как бы поднимаясь по кругам земного ада к желанному раю и обнаружив в конце восхождения, что его, вероятно, вообще не существует, потом совершают обратный путь, пока не блеснет новая надежда, опять не появится возможность для веры. А как у Робера Брессона? Персонаж «Дневника сельского священника» (у него даже нет имени - он просто священник из Амбрикура) находит успокоение в смерти, а в ленте «Приговоренный к смерти бежал» (что уже ясно из названия) бежит от смерти. Хотя Брессон обрывает повествование. И мы не знаем, что ждет Фонтена. Но все-таки он бежал. Впереди - жизнь. А какая? Будет дальше влачить лишь жалкое существование? Может быть, станет впоследствии преступником («Карманник»)? Однако люди иногда способны подниматься «над жизнью», действительно превращаясь в героев. Но и здесь возникают свои проблемы. Жанна Д'Арк («Процесс Жанны Д'Арк») боролась за короля, а он ее предал. Кому остается верить? Святому Михаилу? А осел Бальтазар («Ненароком, Бальтазар») вынужден терпеливо сносить все издевательства, переходя от одного хозяина к другому. Зато Мушетт («Мушетт», экранизация другого произведения Жоржа Бернаноса, автора «Дневника сельского священника») не терпит - по-своему протестует. Она в одиночку борется с этим жестоким миром, пусть ее борьба безнадежна. И Мушетт кончает жизнь самоубийством. Вода смыкается над ней - она словно уходит в затемнение. Вновь - успокоение в смерти. Робер Брессон - католик. Это накладывает определенный отпечаток на его творчество. Хотя аскетизм и сухость католицизма Брессона не имеет ничего общего, например, с католицизмом Феллини. Художник (и в том, и в другом случае) побеждает католика. И единственный фильм Робера Брессона о церковнике - это как раз «Дневник сельского священника» (правда, есть еще «Грешные ангелы» о женском монастыре, где тоже наличествует тема смирения). Экранная версия романа Бернаноса, написанного в 1936 году (сам он умер в 1948-м, то есть за два года до съемок), является великолепным примером единства брессоновского стиля и сюжета. Непрофессиональный исполнитель Клод Лейдю спокойным и бесстрастным голосом читает за кадром текст. Это - холодная беспристрастность рассказчика. Это - повествование. И Брессон тоже повествует. Он будто отгораживается от сопереживания. Причем важное значение имеет так называемый «иллюстративный текст» - то есть текст, который просто иллюстрирует почти все происходящее на экране. Допустим, Лейдю за кадром говорит, что пошел к священнику из другой деревни, но не застал его. И мы видим в это самое время, как герой идет к деревне, подходит к дому священника, стучится, и вышедшая женщина сообщает, что того сейчас нет на месте. В «нормальном» кинематографе закадровый текст был бы излишен. А у Робера Брессона он приобретает особый смысл. Бесстрастное повествование контрастирует с трагической историей молодого священника. Рассказчик - как бы сторонний наблюдатель. Зритель - тоже. Но зрителя надо заставить «почувствовать то, что чувствуешь сам, вместо того, чтобы предлагать ему какую-нибудь историю, если хотите - зрелище, хорошо или плохо скомпонованное» (Брессон). Необходимо, чтобы зрители сами пережили то, что переживает герой (а через него - автор). Поэтому режиссер ограничивает себя во всем и превращает свои фильмы в один длинный внутренний монолог. Действие проигрывается дважды. То, что мы слышим в качестве произносимого текста, это - информация о событиях, а иначе - фабула. Слушая, мы следим за развитием действия. А вот то, что мы видим, это - подтекст. Смотря, мы осознаем внутреннюю суть происходящего. Можно пояснить на таком примере. Когда мы в первый раз смотрим какую-то картину, то нас интересует ход событий - проще говоря, мы хотим знать: о чем этот фильм? И только во второй, третий раз и т. д. мы замечаем всю глубину авторского подтекста, читаем те мысли, которые вкладывал автор в соединение разных событий. А Брессон словно предоставляет нам возможность не глядеть ленту дважды. Достаточно одного раза. Хотя брессоновские фильмы надо уметь смотреть. Уметь различать слышимое и видимое. Это произведение называется «Дневник сельского священника». То есть исповедь. И надо уметь видеть, что скрыто за текстом. Слова - лишь внешнее оформление наших чувств. Часто они не выражают то, что мы чувствуем. Или же чувства вообще невыразимы. Точно так же и поступки далеко не всегда выражают нас самих. Это - еще один план творений Робера Брессона. Когда мы уже знаем, что происходит в картине, мы начинаем следить за внутренним содержанием происходящего. Получая у Брессона информацию через текст, мы уже не обращаем внимания на внешнее поведение исполнителей. Мы смотрим сквозь их лица. Вглубь их душ. И осознаем трагичность истории. Трагедия сельского священника заключается в том, что его никто не понимает. Люди смотрят на него только как на персону, а не на личность. Робер Брессон в «Дневнике сельского священника» одним из первых уловил трагичность существования человека во второй половине XX века. Вслед за ним тему некоммуникабельности развивали Микеланджело Антониони, Ингмар Бергман и западногерманская «новая волна» (прежде всего - Вим Вендерс). Не случайно, что священник болен. И не знает - отчего. Его физическая болезнь - внешнее выражение внутренних мучений. И подобно тому, как священник не ведает, что причина болезни заключена в употреблении скверного вина, так он и не знает о причине душевных страданий - невозможности единения Бога и человека, примирении веры в лучшую загробную жизнь и желания дальше жить на этом свете. Допустим, священник смог заставить графиню забыть о смерти ее сына и думать, что ждет уже в том мире - только успокоение. Но все дело в том, что у него самого нет никакой надежды (речь не идет о вере). Жизнь теряет свой смысл, когда не знаешь, для чего живешь. У Фонтена из ленты «Приговоренный к смерти бежал» есть надежда на свободу и на то, что он останется жить. Эта надежда придает ему уверенность. Фонтен говорит своему соседу: «Я думаю о вас, и это придает мне мужество». Нужно бороться за других. Потому что в том случае, когда человек думает только о себе, он уже готов смириться. Главный персонаж «Дневника сельского священника» вроде бы пытался бороться за других. Его не поняли: почему он вмешивается в чужую жизнь? У них - своя жизнь, и у него - своя. Им-то ведь нет до него никакого дела. Одиночество священника как раз и подталкивает его бессознательно к смерти. Подобно тому, как он думает, что физические боли пройдут, так смиряется и с неразрешимостью вопроса о Боге и человеке, о жизни и смерти. В конце фильма священник умирает. Из затемнения возникает крест. И уходит в затемнение. Такова и жизнь человеческая. Что остается? Крест. То ли знак того, что человек был распят жестокостью жизни. То ли надежда на воскресение после распятия и встречу с Богом в загробном мире - то есть это символ веры. То ли вера в человеческую память. То ли молчаливый укор за очередную загубленную жизнь. Оценка: 10 из 10. (Сергей Кудрявцев, 1976)
Дела Брессона. [...] Трансцендентальное искусство чуждо сектантству: «Искусство может быть религиозным, - писал Герард ван дер Леув, - или казаться таковым, но оно не может быть мусульманским, буддистским или христианским. Не существует христианского искусства, как нет христианской науки. Есть только искусство перед лицом божественного». Истинная функция трансцендентального искусства, следовательно, состоит в выражении божественного самого по себе (трансцендентного), а не в иллюстрировании святых чувств»1. Сложность в том, что трансцендентальное в искусстве - это гипотетическое или теоретическое. Его невозможно выразить или описать. Но можно подразумевать - держать в уме. Что и делает Шредер в своей книге «Трансцендентальный стиль в кино: Одзу, Брессон, Дрейер, а Брессон - в большинстве своих лент. Он воспринимает реальность и, соответственно, кинематограф как промежуточные или посреднические пространства. И сам становится проводником - между трансцендентальным и повседневным, внешним и внутренним, видимым и невидимым. В «Дневнике сельского священника» мир подернут дымкой то ли божественного, то ли космического. [...] Видеть, не обозначая, и говорить про себя - молча. «Свести все к простому видению - сокровенное желание интеллекта, стремящегося превзойти условия человеческого существования, но удовлетворяется это желание лишь благодатью, в сверхсветозарной ночи Боговидения»5. К этому Брессон приходит в «Дневнике сельского священника» и «Приговоренном...». Это уже монологическое кино. Там действует только один герой. Но у него есть отражения - собственная тень на стене тюремной камеры («Приговоренный»), почерк как автопортрет на страницах дневниковой тетрадки («Дневник сельского священника»). [...] По этой же причине Брессон, как, кстати, и Брехт, против актеров, чьи игра и повышенная активность сковывают зрение, чувства зрителей, их режиссерские способности. Модели Брессона, напротив, - это зрители собственных судеб. Они «играют» так, словно все уже сыграно, прожито, завершено. Единственное, что им остается - это говорить о себе в прошедшем времени, как о тех, чье существование уже прекратилось. Герои Брессона говорят о себе, как о мертвых, и тем самым бросают вызов смерти и разрушительной силе времени. [...] Кино Брессона антропоморфно. «Кино - это не зрелище, а почерк». Почерк каждого неповторим, но часто неразборчив, а потому - стенографичен. Он требует расшифровки, медленного чтения (наблюдения) и повторения каждого движения пера (или взгляда) стенографиста. Почерк - след человеческого «Я». Кюре понимает еще и то, что его дневник никто не сможет прочесть, кроме него самого. И потому решает его сжечь, а можно сказать - похоронить. Чтобы не оставлять после себя следов. Забываешь себя тогда, когда о тебе не могут вспомнить другие. «Дело в том, что он [писатель] ощущает крайнее нежелание отказываться от владения собой ради той ничейной силы, не имеющей ни вида, ни предназначения, что стоит за всем, что пишется, - нежелание и опасение, которые выдает свойственная стольким авторам забота изготовить то, что они зовут своим "Дневником". Это очень далеко от так называемой романтической слабости. Ведь Дневник по своей сути не является исповедью, повестью о себе самом. Это Памятник... Истина Дневника содержится... в тех незначительных подробностях, которые привязывают его к обыденной действительности... Все это говорится без всякой заботы об истине, но говорится это под присмотром события, принадлежит... к некоему активному настоящему, поре, быть может, совершенно ничтожной и не имеющей никакого значения, но тем не менее, безвозвратной»12. «Ничейная сила», завладевающая героями Брессона, - это рок. Но кюре пишет Дневник не ради «владения собой». Фиксируя «незначительные подробности», детали и шорохи «обыденной действительности», он сливается со своей судьбой, с «активным настоящем» и судьбой мира, исчезает в них. «Я» священника - это безымянность мира, события, времени. Если его дневник - это памятник, то недолговечный или тот, который сам нуждается в восстановлении. «Дневник указывает на то, что пишущий больше уже не способен соотноситься со временем через постоянство обыденных занятий, через общность труда, ремесла, через простоту задушевного слова и в силу бездумности... Он пишет на потребу собственной повседневной истории и в соответствии со своими каждодневными занятиями»13. Дневник кюре, а можно сказать - кинематограф Брессона, есть единственная форма взаимоотношений с миром. Чем прозрачнее форма, тем насыщеннее мир. Чем явственнее отсутствие первой, тем очевиднее присутствие последнего. Кюре ежедневно стенографирует собственное существование. Письмо кюре - это стенограмма его жизни. [...] Вооружившись мыслью Мориса Бланшо, можно сказать, что из остатков образного языка Брессон формирует образ самого языка, - того, на котором Брессон говорит, и того, о котором он говорит. Чистое единство. Без борьбы противоположностей. Изобразительный аналог стенограммы - фотография. И та, и другая документируют реальность. Если письмо кюре можно свести к стенограмме, то кинематограф Брессона тяготеет к фотографии. Фотография - это источник искусства Брессона, стенограмма - итоговая форма дневника кюре. Стенографическое письмо кюре равнозначно фотографическому письму Брессона. Изображение в «Дневнике сельского священника» становится фотографией, а страницы из дневника, снятые крупным планом, - стенографической подписью к ней. Так как написанный, читаемый и произносимый священником текст равен - и по точности, и по интонации - изображению, то можно сказать, что священник как бы фотографирует сам себя. Тут соблюдается и главный принцип Дневника - принцип анонимности (зритель так и не узнает имени священника). Эта почти «средневековая» (доренессансная - в противовес индивидуализму) анонимность обязывает художника (писателя, фотографа, кинематографиста) писать, фотографировать и снимать так, чтобы забывать себя, и чтобы о тебе забывали другие, забывал мир. Крупный план букв, слов, предложений, выходящих из-под пера кюре, слой за слоем ложится на пейзаж - и пейзаж просвечивает сквозь страницы тетрадки. Забыть, что являешься писателем, фотографом, режиссером. Поставить крест на своей субъективности. Словно священник только и делает, что подписывает картину мира, но - на самой картине: другого места нет. Неизбежное смещение подписи - следствие безграничности картины мира, ее всеохватности. У Брессона изображение всегда выходит за границы рамки, никогда не ограничивается ею. Так подпись пропадает в картине, слово - в изображении. И наоборот. Кюре делает подписи к фотографиям Брессона, но и Брессон делает снимки к записям священника. Брессон относится к кюре не как к герою, а как к соавтору. Режиссер прочитывает - на экране - книгу Бернаноса, а зритель внимает герою, пишущему дневник. Эта сложная структура есть система отношений между автором, героем и зрителем, своего рода «общественный договор», который определяет дистанцию (точнее, дистанции, так как они не равновелики) между ними. В экранизациях Брессона режиссура тяготеет не столько к письму, сколько к чтению. [...] Брессон ставит перед собой великую задачу - спровоцировать зрителя не на критическую, а на художническую позицию, создать такие условия, при которых сам зритель наделял бы произведение аурой. Поэтому идеальный зритель Брессона - это режиссер. В этом состоит смысл брессоновского аскетизма, доведенного в «Дневнике сельского священника», «Приговоренном к смерти...», «Процессе Жанны Д'Арк» до крайности. Брессон убирает все, что связано с аттракционным (техническим) кинематографом. Он создает чистую, абстрактную форму, оставляет белый лист и вручает зрителю карандаш. На просьбу приговоренного к смерти принести ему Библию следует ответ: «Библии нет, зато есть карандаш». Карандаш - это глаз зрителя, чье восприятие отныне дополняет произведение, одушевляет его. А дух - это аура. [...] В «Дневнике сельского священника» экранная реальность зависела от зрительского взгляда, а жизнь героя - от нашей способности держать его в поле зрения, от силы и выносливости зрительских органов чувств. [...] Брессон последовательно отказывался от всех «искусственных» элементов в искусстве. Пока не отказался от искусства как такового. Брессон открыл и закрыл «трансцендентальный стиль». Он не имел и, наверное, не желал иметь учеников. И вместо многоточия поставил точку - без намека на возвращение. Он умер в конце столетия. Последние шестнадцать лет своей жизни ничего не снимал. Отказавшись от искусства, Брессон сошел с дистанции - в тень. И, не желая оставлять после себя следов, стал одним из своих героев.
1 - Шредер Пол. «Трансцендентальный стиль в кино: Одзу, Брессон, Дрейер»/«Киноведческие записки», N32. [...] 12 - Маритен Жак. Указ. соч., с. 233. 13 - Бланшо Морис. «Пространство литературы». М., 2002, с. 20-21. (Евгений Гусятинский, 2004. Читать полностью - http://www.kinozapiski.ru/ru/article/sendvalues/238/)
«Робер Брессон - один из наиболее «редких» художников в двух смыслах: по качеству работы и по числу фильмов», - написал Андре Базен. Можно добавить: и один из самых аскетичных. Склонность к аскетизму - не только в искусстве, но и в жизни - лежит в русле приверженности режиссера янсенизму. Возникшее в католицизме еретическое учение голландского теолога Корнелия Янсения - часть «той волны самоуглубления, которая прошла в 17-18 веках поверх конфессиональных границ Западной Европы... и представляла собой попытку возродить безусловность исконно христианского отношения к миру»1. В истории французской культуры среди других великих, отдавших дань янсенизму, - Блез Паскаль. Он, заложивший основы науки нового времени, отверг абстрактный порядок предустановленной гармонии и средневековую идею спасения ради того, чтобы поставил, в центр мироздания беспокойство тоскующей, ропщущей человеческой души, не соглашающейся признать над собой власть готовых истин. «Иисус в предсмертной скорби будет до конца мира, - писал он в «Тайне Христа»2. А значит, нельзя спать, нельзя быть спокойным. Правда, это может не всякий. Тогда спать нельзя некоторым «избранникам» (или мученикам), ибо если уснут и они, как уснули апостолы в Гефсиманском саду, в мире окончательно восторжествует смерть. Эти слова сказаны будто о героях Брессона, о его «мучениках», среди которых первый - охваченный «святой агонией» кюре из захолустного Амбрикура, самого незавидного прихода, куда только можно было назначить совсем юного и неопытного пастыря. Фильм «Дневник сельского священника» поставлен по роману Жоржа Бернаноса - одного из славной когорты французских писателей XX века, принадлежавших кругу «католического» возрождения. Брессон (отказавшийся от двух предложенных ему сценариев по этой книге, написанных еще во время войны) необычайно бережно отнесся к оригиналу и оказался достойным своего соавтора, сохранив в неприкосновенности не только драматургическую структуру, но и текст во всей его книжности, литературности. Вынужденно опуская некоторые эпизоды и часть словесного материала, он не стремился сделать «дайджест», в котором, как часто надеются экранизаторы, должно уцелеть самое существенное. У Брессона закадровый голос, читающий записки кюре, как и диалоги персонажей, дословно воспроизводят текст Бернаноса. Не пытаясь конденсировать смысл на меньшем объеме сценария, Брессон просто смонтировал фрагменты романа так, как они были написаны, обрезая ткань повествования едва ли не по живому и ничуть не стараясь упрятать швы. Литературность фильма подчеркнута и превращена в достоинство. Брессон разбил и еще один предрассудок, согласно которому изображение и звук должны дублировать друг друга. Здесь мы, как правило, слышим сначала закадровый голос, читающий кусок из дневника, и - с секундным опозданием - событие, по поводу которого сделана запись, появляется на экране. Иллюстративность, которая неизбежно должна была бы возникнуть в результате дублирования звука и образа. Брессона не испугала. Форма дневника позволила оправдать свойственное Брессону пренебрежение к реальному течению времени и помогла зрителю погрузиться в то истинно значимое время, в котором подсознательно жил герой фильма. В сущности, неясно, сколько хронологического времени протекло на экране, но это совершенно безразлично - оно длится как одна нескончаемая осени... Литературная основа обернулась исходной реальностью фильма, соперничающей, контрастирующей с той реальностью, которую ловит и отражает кинокамера. Этот контрапункт составляет самую суть стилистики Брессона, ее животворящий ток. Американский режиссер Пол Шредер относит эту особенность на счет брессоновского янсенистского недоверия к компетенции разума и морально-духовном бытии, подконтрольном (по мнению обоих режиссеров) лишь божественному провидению. В фильме отсутствуют какие-либо «возвышенные» детали: мир людей предстает у Брессона в самом что ни на есть обыденном обличье, в нем много грязи, навоза, мертвечины, блевотины. В жизни людей и предметов, в их взаимосвязях нет плавности переходов, гармоничной слиянности; отсюда - четкая конструктивность композиции, эллипсы (пропуски) в самых, казалось бы, важных и выигрышных местах. Вот кюре входит в дом лилльского доктора: мы не видим, что там происходит (в романе эта сцена занимает несколько страниц, зритель же довольствуется только табличкой с фамилией врача), но безошибочно читаем диагноз на лице бедняги, выходящего из дверей. Или вот он «принимает позу абсолютной покорности, полного смирения», чтобы горячей молитвой призвать к себе Господа, но самой молитвы мы опять-таки не видим, а видим только, как он тяжело подымается с колен, держась за спинку кровати - небеса остались глухи. Резко фрагментируя предметный фон, отрывая вещи друг от друга, Брессон преодолевает внешнюю реальность с помощью рационализации, отсылающей к Паскалю, который превзошел математику с ее торжествующим порядком и оставил ей место в «дочеловеческом» мире - место, говоря уже словами К. Леви-Стросса, «сырой» реальности, не одушевленной человеком. «Дневник сельского священника» - это фильм о спасении души, о поиске благодати. И структура его подчинена литургии страстей Господних. Эпизоды выстраиваются как путь на Голгофу: хлеб и вино (единственная пища, которую не отторгает смертельно больной организм), падение в грязь, тряпка крестьянской девочки Серафиты, которую она окунула в лужу, чтобы отереть его лицо (смоченная в уксусе губка, поднесенная распятому на кресте), и потом ее вынужденное предательство (отречение Петра), смерть в мансарде - все эти параллели понятны зрителю, но самим персонажем вовсе не воспринимаются как повторение жертвенного искупления Иисуса. В том-то и дело, что у каждого - свой крест, и каждый несет его в одиночку под бременем собственных страданий, сомнений и отчаяния, не замечая за пеленой обыденности параболы духовного восхождения. Слова Паскаля о миссии «избранных» без всякого пафоса звучат в фильме из уст единственного друга героя - торсийского кюре, с нежностью выслушивающего молодого коллегу, но с высоты своего опыта вынужденного охладить его пыл: «Всех нас клонит в сон, и подчас чертовски трудно не дремать, уснули же в Гефсиманском саду апостолы, даже они!» Священник из Амбрикура не хочет поддаваться сонливости; наперекор тяжелому равнодушию крестьян и холодной, презрительной враждебности Замка, пересиливая истощающую силы болезнь, он принимает на себя больше, чем его собратья: он выдерживает нравственный поединок с окаменевшей в своем горе графиней; он ищет путь к сердцу маленькой злючки Шанталь, заявившей: «Я спущусь в ад, ежели захочу»; он борется с родителями за душу строптивой неряхи Серафиты. Даже если учесть намеренный «автоматизм» в поведении исполнителя этой роли, нельзя не заметить, что на него ложилась огромная нагрузка. Любой режиссер подивится смелости Брессона, назначившего на нее не просто дебютанта, а вообще неактера. Кстати. Андре Базен даже бросил ему в связи с этим упрек в «слабой актерской игре», на что, однако, довольно резко возразил Трюффо, подчеркнувший, что актерская игра у Брессона не может быть описана в категориях «подлинности» или «фальши». Она всегда предполагает связь с вневременным, особое - как правило, трагическое - бытийственное состояние, очищенность и возвышенность страдания. Брессон по-особому относится к актерам (начиная с «Дневника», он навсегда отказался от профессионалов): разъяснение этого своего отношения он дал в «Заметках о синематографе». Считая изощренную актерскую игру, как, впрочем, и другие ухищрения кино (монтаж, например), «экранами», мешающими зрителю проникнуть в сути он тем не менее роняет фразу: «Между ними (актерами) и мной: телепатические обмены и взаимосвязи». Такая связь возникла, видимо, между ним и двадцатичетырехлетним швейцарцем Клодом Лейдю, с которым он целый год встречался и каждое воскресенье подолгу беседовал. (Помимо этого Лейдю несколько недель провел в кругу молодых священников, усваивая их манеру поведения, жесты; во время съемок он голодал, как и его герой, и сутану носил не сшитую костюмером, а одолженную у человека, который ее довольно долго носил.) Было ли случайностью и то, что Николь Ладмираль, выбранная на рать Шанталь, подумывавшей о самоубийстве, через несколько лег покончила с собой? Конечно же, не Брессон подвинул ее к этому шагу, но неким интуитивным чутьем он угадал в ней духовную близость героине фильма. Подыскивая исполнителей, Брессон опирался не на внешнее сходство: внешне Лейдю, например, не похож на кюре, описанного Бернаносом. Для Брессона кино (точнее, «синематограф», который он противопоставляет «кино» как зрелищу на потребу публики с низменными вкусами) - искусство не «внешнего», а «внутреннего». Отсюда и пренебрежение внешними приемами игры. А в результате, как сказал, перефразируя Паскаля, исследователь творчества Брессона Мишель Эстев: «Ожидая найти актера, находишь человека». Синтез всех этих усилий (особо следовало бы сказать о точно найденном ритме, о синхронно записанном звуке с врывающимися в самых эмоциональных моментах бытовыми шумами и о многом другом) создает необычайную драматургическую напряженность «Дневника сельского священника», разрешающуюся в финале смертью кюре и его последними словами, бросающими отсвет на весь фильм: «Все - благодать». Тень креста падает на белую стену - и экран не погружается в привычный мрак, а заливается девственно белым светом, делающим бытие, согласно средневековой символике алхимиков, прозрачным, превращающим его в блистание, восхищающее душу, изумляющее ум и слепящее глаза.
1 - Аверинцев С. «Янсенизм. Философская энциклопедия». М., 1970, т. 5, с. 615. 2 - Паскаль Б. «Мысли о религии». М., 1989, с. 202. (Нина Цыркун. «Искусство Кино», 1990)
Во французском кино Роберу Брессону принадлежит особое место. Начиная с 1943 года, когда он заявил о себе как о киноавторе фильмом «Ангелы греха», Брессон поставил всего девять картин. Но каждая из них привлекала к себе пристальное внимание критики, становилась предметом долгих обсуждений. При всех внешних различиях его произведения обладают внутренним единством, служат развитию и выявлению некоей идеи, преследующей режиссера как наваждение. Но что это за идея, определить не так-то просто. Когда мысленно пересматриваешь фильмы Брессона, убеждаешься, что своеобразие его творчества связано не столько с сюжетами (частью заимствованными, частью нарочито банальными) или персонажами (однообразными и очерченными лишь общим контуром), или религиозными идеями (большею частью лежащими на поверхности), сколько с самой экранной формой, т. е. специфическим для данного режиссера способом кинематографической трактовки реальности. Стиль Брессона с течением времени приобретал все более четкое выражение, одновременно как бы обособляясь от содержания. Если в «Ангелах греха» на первый план выступали религиозно-нравственные идеи режиссера, а в «Дамах Булонского леса» (1945) - перипетии любовной интриги, то начиная с «Дневника сельского священника» (1950) главным смыслообразующим элементом фильмов становится их стиль. В своем стремлении к максимальной законченности формы Брессон нередко оказывается на грани схематизации, но не потому, что пренебрегает предметностью, а, наоборот, потому, что воспроизводит мир вещей со слишком большой тщательностью. При этом из всего жизненного многообразия режиссер отбирает только то, что ему необходимо. Стиль Брессона - это движение от конкретного к абстрактному, от пестрого беспорядка к единообразию - путем все большего освобождения от случайного, все большего ригоризма. Художественная форма у Брессона - это нечто вроде монастыря, куда режиссер запирает не в меру расходившуюся жизнь. Наиболее законченного и чистого выражения стиль Брессона достиг в фильмах «Приговоренный к смерти бежал» (1956) и «Карманник» (1959). При всем различии сюжетов фильмы эти очень близки между собой, прежде всего благодаря тому исключительному значению, которое приобретает в них передача движений, жестов, внешних деталей поведения. Событие как бы разлагается на элементы, на отдельные «фазы» и в таком - молекулярно чистом виде преподносится зрителю. В одном случае из фильма изъято все, что не связано с подготовкой побега, в другом все, что не относится к профессии героя - карманной краже. Задача дробления действия на мельчайшие составные диктуется самой ситуацией: чтобы осуществить побег из тюрьмы (или карманную кражу), герой должен разделить весь процесс на отдельные моменты и в каждый данный момент сосредоточиться на одном движении, на одной задаче, будь то процарапывание дверной филенки, плетение веревки или сближение с жертвой в уличной толчее. Но ведь ситуации для фильмов выбирает автор! Брессон намеренно помещает своих героев в такие условия, когда все детерминировано строжайшим образом, - потому-то такое значение приобретает каждый жест. Малейшая ошибка ведет к гибели. Чтобы спастись, человек должен действовать с точностью машины. В конце концов оба героя осуществляют свой побег: один вырывается из тюрьмы, другой из той изоляции, на которую его обрекает профессия. (Парадоксальное совпадение: внутреннее освобождение карманника происходит как раз в тот момент, когда он попадает за решетку!) Но герой, добившийся свободы, перестает занимать Брессона, и фильм тут же кончается. Да и вообще в представлении режиссера человек, по-видимому, никогда не бывает свободен, его действия всегда детерминированы некоей силой, действующей извне. Это не значит, что герои Брессона пассивны. Напротив, они очень активны, но их усилия направлены всегда в одном направлении. Изменить это направление им не дано. Недаром в одном интервью режиссер говорил о «невидимой руке, которая направляет события». Все фильмы Брессона строятся в соответствии со строгой хронологической последовательностью - вещь в современном кино довольно редкая. Режиссер как бы привязывает действие к текущему моменту, не давая ему ни обогнать время, ни вернуться вспять. Как остроумно заметил один французский критик, камера у Брессона «может видеть, но не предвидеть». Режиссер избегает всякого субъективизма - произвольного ускорения или замедления, разрежения или сгущения временного потока. Время у него подчинено хронометру. Многие фильмы Брессона воспроизводят уже отошедшие события: бегство из тюрьмы заключенного (о котором само название фильма сообщает «Приговоренный к смерти бежал») или процесс Жанны д'Арк (исход которого также известен заранее). В фильме «Приговоренный к смерти бежал» действие сопровождает закадровый комментарий в прошедшем времени («я вышел в коридор», «я услышал шаги» и т. д.), причем комментарий этот не сообщает нам ничего такого, чего мы сами не видели бы в кадре, он просто подчеркивает, что все это уже было и не может быть изменено. Мотив действия, уже совершившегося, завершенного и тем самым предопределенного (в отличие, скажем, от Годара, у которого каждое мгновение чревато многими возможностями), очень характерен для Брессона. В обращении с этим прошедшим режиссер не позволяет себе никаких вольностей, он излагает его момент за моментом, следует за ним «вплотную», как если бы оно было настоящим. Время неумолимо, каждый персонаж захлестнут его петлей намертво. Человеку не дано выхода даже в мечту, даже в воспоминание. Герои Брессона никогда не видят снов и не знают радостей любви. Мир, окружающий брессоновских героев, тягостно материален и разрежен одновременно. Режиссер старается быть как можно ближе к реальности, ничего не выдумывать, и в то же время он создает свой, особый мир. Он работает, как скульптор: берет глыбу реальности и удаляет все лишнее. Но и те немногие предметы, которые остаются в кадре, теснят героев. В тюрьме количество вещей сведено к минимуму, но зато человек зависит от них всецело: сюжет фильма - это история взаимоотношений героя с ложкой (превращенной в стамеску), матрасом или веревкой. В тюрьме звуки играют особую роль, можно сказать, что они несут главную информацию. Потому-то режиссер так тщательно отрабатывает фонограмму. Шаги надзирателя, не похожие на них шаги заключенных, стук засова, шум трамвая за стенами - все это соотносится с единственной целью - побегом. Вне такого соотнесения они не обладают для героя (а тем самым и для режиссера) ни смыслом, ни значением. У героя появляется сосед по камере. И опять реакция на это явление связана все с тем же вопросом: как это отразится на реализации плана побега? Все окружающее - и себя самого - герой воспринимает лишь в связи с той целью, которая стоит перед ним - и над ним. Идее предопределения у Брессона соответствует строгий детерминизм стиля. Многие современные кинематографисты стремятся сделать так, чтобы жизненная стихия как можно более свободно вторгалась в их фильмы. Они снимают на улице, в людской толчее, без твердого сценария, позволяют посторонним шумам «засорять» фонограмму, дают актерам свободно импровизировать и т. д. Совершенно иная установка у Брессона. Он любит повторять, что «каждый фотографический план может иметь только один, вполне определенный угол съемки, только одну, вполне определенную протяженность во времени». Для режиссера существует только замысел и его воплощение. Свой фильм он готовит с такой же тщательностью, как заключенный - побег из тюрьмы. Необходимо все предусмотреть заранее, роль случая должна быть сведена к нулю. «Невидимая рука» направляет события. В фильме - это рука автора-режиссера. В своем стремлении полностью подчинить исходному замыслу все элементы фильма Брессон приходит к необходимости подавить творческую индивидуальность актера. Потому-то он предпочитает иметь дело с непрофессиональными исполнителями - их легче превратить в пассивных исполнителей авторской воли. Франсуа Летерье, сыгравший главную роль в фильме «Приговоренный к смерти бежал», рассказывает, что Брессон «не давал актерам возможности «почувствовать роль», не предлагал никаких психологических разъяснений относительно роли, которую они исполняли». О том, как чувствует себя при этом актер, наделенный яркой творческой индивидуальностью, свидетельствует рассказ Марии Казарес, которая снялась у Брессона в «Дамах Булонского леса» в те времена, когда режиссер еще не отказался от работы с профессиональными актерами. «Робер Брессон хотел бы играть все роли, регулировать освещение, кадрировать, сам шить костюмы, сам изобретать моды и готовить реквизит. Я подозреваю, что ему хотелось бы превратиться в кинокамеру и в осветительные приборы. На съемочной площадке это настоящий тиран, он хочет подменить все и всех, требует точности до миллиметра, требует, чтобы реплики произносились именно с такой-то интонацией, чтобы актер поднимал взгляд строго определенным образом, даже если это ему неудобно. Наконец мне кажется, что он желал бы иметь актеров в разобранном виде, чтобы их можно было собирать, как машины, именно в тот момент, когда им надо явиться перед камерой. Я помню, как в течение двадцати минут он разгуливал передо мной, повторяя коротенькую фразу, которую мне предстояло произнести, причем произнести как бы непроизвольно. Вот эта фраза: "Ах, Жан, как вы меня напугали!" И я никогда не забуду, как он искал интонацию, чтобы в момент съемки вложить ее в меня уже совсем готовой. Но чем же, в таком случае, становится актер? Роботом, марионеткой? Фильм имел большой успех, он даже стал классическим произведением экрана, и потому ничто не мешает мне признаться, что никого я так не ненавидела, как Робера Брессона во время съемок, - именно во время съемок, потому что во все остальное время я относилась к нему очень хорошо. О, как я его ненавидела! Между тем я его понимала, и он меня даже интересовал. Я считала, что он доводит до абсурда свою роль кинорежиссера. Другие делают то же самое иными средствами; говорят, что некоторые даже бьют своих исполнительниц, чтобы затем заснять на пленку их слезы. Я нахожу это гнусным и отвратительным, достойным презрения. Брессон убивал нас нежно, мило, он оставлял от нас пустую оболочку. Это гораздо чистоплотнее, гораздо порядочнее, - это заслуживает ненависти...» Проблема актера издавна привлекала внимание философов, видевших в сценической игре своего рода «модель» человеческого существования. Так, Дидро, ставя вопрос альтернативно: либо неконтролируемая непосредственность человеческого чувства, либо намеренное актерское лицедейство, - отдавал решительное предпочтение последнему. Причем вопрос этот имел для него не только эстетическое значение. Альбер Камю считал актера одним из воплощений «абсурдного человека», ничем не детерминированного, обладающего абсолютной свободой. Каждый вечер он играет избранную роль, он превращается в Яго или в Оргона, живет их жизнью, зная, что через несколько часов рампа потухнет и он умрет. Отношение к актерам Брессона может служить наглядным выражением взглядов, диаметрально противоположных воззрениям Камю. Человека ведет не свободная воля, но провидение. На съемочной площадке по отношению к актерам в роли господа бога выступает режиссер. Брессон надеется, что отказ от профессиональных актеров поможет ему легче выявлять духовную жизнь своих героев, тем более что исполнителей он старается подбирать по принципу «морального сходства». Подобно тому как действие дробится на отдельные моменты, так и психология действующих лиц разлагается на элементы или знаки - взгляды, жесты, интонации, выражения лица. Комбинируя затем эти элементы, режиссер добивается нужного эффекта. Возникающее однообразие не смущает его, напротив, он видит в нем залог стилевого единства. «Я стараюсь сообщить моим персонажам определенное сходство, - говорит Брессон, - я требую от актеров (от всех моих актеров), чтобы они говорили определенным образом, вели себя определенным образом, причем всегда одним и тем же». Известное однообразие и своего рода непроницаемость характеризуют создаваемый Брессоном экранный мир. Будучи убежден, что самое главное - это внутреннее, духовная сторона вещей и явлений, режиссер не видит иного пути к внутреннему, как только через скрупулезное фиксирование внешнего. В его творчестве видимость и сущность разошлись, и в образовавшуюся брешь уходят все усилия режиссера. Перед нами искусство, придающее исключительное значение внутреннему, но ограничившее себя поверхностью вещей; внешнее фетишизируется и обесценивается одновременно. «Впрочем, - замечает Брессон, - внешнего не существует». Сущность недостижима, видимость несущественна - таков трагический парадокс творчества Брессона, такова «двойная редукция», которой он подвергает окружающий мир. Погруженный в мир видимостей и действующий в нем методом «сокращений», методом изъятия лишнего, режиссер рискует остаться перед белым экраном, ибо «лишним» оказывается все. Фильм «Мушетт» (1967, экранизация повести Жоржа Бернаноса) выглядит как попытка бороться с этой угрозой путем возврата к грубой материальности. При этом все исходные предпосылки творчества Брессона сохраняются, хотя и проявляются порой в перевернутом виде. Вновь перед нами непрофессиональные актеры и тщательное фиксирование жестов, и инвентарная опись предметов, и жесткая фактурность среды (даже свет и тени можно почувствовать почти что «на ощупь»). Но появляется и нечто такое, что раньше зрелым работам Брессона было несвойственно. Первые же кадры фильма словно приглашают нас приготовиться к мелодраме: здесь и таинственность, и нагнетание драматического напряжения, и символика. Мы видим, как один человек, крадучись, пробирается по лесу, а другой скрытно следит за ним (лицо и взгляд крупным планом); человек делает что-то непонятное, потом мы понимаем, что он ставит силки. В них попадается куропатка и долго бьется на земле (бьющаяся птица крупным планом). После чего следует история Мушетты? четырнадцатилетней девочки, одинокой, забитой, озлобленной, претерпевшей все возможные оскорбления и лишившей себя жизни. Пьянство отца, смерть матери, любовное соперничество, едва не приводящее к убийству, девочка-подросток, становящаяся жертвой насилия, - казалось бы, полный набор ситуаций, характерных для жестокой мелодрамы либо для натуралистического бытописания провинциальной среды. Что касается мелодраматизма, то он нет-нет, да и напомнит о себе по ходу фильма - то откровенно сентиментальным штрихом, то слишком уж прямым уподоблением (Мушетта - затравленный зверек). Эти уступки со стороны Брессона красноречивы. Ведь что такое, в сущности, мелодраматизм, как не торжество явления в его самом прямом и элементарном значении: поругана любовь - поплачем над ней, наказан порок - веселись, зритель! Однако, взятый в целом, фильм Брессона отнюдь не мелодрама. Избегает Брессон и другой проторенной дороги - натуралистического бытописания, ибо дело ведь не в том, насколько подробно изображается мрачная сторона жизни, а в том, что ни быт, ни физиология не играют в фильме решающей роли, - они несущественны прежде всего для самой Мушетты, удивительно равнодушной ко всему окружающему миру, живущей своей особой, замкнутой жизнью. «Замкнутость» - вот, пожалуй, ключевое слово для определения брессоновского мира и брессоновских героев. Однажды режиссера спросили, почему в его фильмах постоянно повторяется тема тюрьмы. «Я этого не замечал», - ответил Брессон и тут же добавил: «Может быть, потому, что все мы узники». В самом деле, герои брессоновских фильмов: сельский священник, смертельно больной и чувствующий себя окруженным равнодушием или враждебностью прихожан; заключенный в тюрьме; вор-карманник в Париже; Жанна д'Арк в темнице; осел, одинокий, как человек; и, наконец, Мушетта - все это - узники, каждый замкнут не только извне, но также изнутри, в своем особом, для других непроницаемом мире. И если Бернанос посвящает много страниц описанию душевных состояний своей героини, то Брессон смотрит на Мушетту со стороны. В сцене смерти Мушетты, которая в фильме решена совсем иначе, чем в повести, наглядно проявился антипсихологизм Брессона. Мы видим, как Мушетта, завернувшись в белое платье, только что подаренное ей соседкой, скатывается по откосу, поднимается и скатывается вновь... Она делает это так же механически и упорно, как раньше кидала землей в своих школьных товарок, как пачкала грязными калошами ковер в доме соседки-благодетельницы. Можно предположить, что и сейчас ею владеет мстительное чувство, и она хочет, валяясь в грязи, испачкать только что подаренное ей платье. А может быть, это игра такая? Во всяком случае, в мимике и поведении героини, равно как и в поведении следящей за ней камеры, нет ничего, что позволило бы нам истолковать происходящее, а тем более последующее. И поэтому, когда Мушетта, скатываясь с откоса в третий раз, вдруг падает в пруд (который до этого оставался вне поля зрения камеры, - но Мушетта ведь знала и видела!) и вода с тихим всплеском смыкается над ней, - мы застигнуты врасплох, хотя чуть ли не с самого начала фильма предполагали, что печальная история маленькой героини закончится чем-нибудь в этом роде. Отстраненность взгляда и закрытость внутренних мотивировок в данном случае полностью соответствуют художественному замыслу режиссера. Внезапность и какая-то непреднамеренная легкость этого конца, этой незаметной смерти сбивает нас с привычной волны восприятия и порождает щемящее беспокойство. Беспокойство - лучшее, что есть у Брессона; оно оживляет его мир, сообщает ему человечность. И хотя предопределение в этом мире господствует как внешний закон, оно еще не стало законом внутренним. Мысль художника, наталкиваясь на жесткую, непроницаемую поверхность вещей, бьется об нее, как рыба об лед. Недаром любимым автором Брессона является Блез Паскаль, который триста лет назад терзался над тем же противоречием и страдал от того, что разум только и может, что «улавливать некоторые видимости среди всего существующего». И беспокойство, религиозная экзальтация Паскаля достигали тем большего напряжения, что, будучи великим естествоиспытателем, он, как никто, умел оперировать этими «видимостями» и, как никто, ощущал тоску по абсолютному знанию, а тем самым и по абсолютному оправданию человеческого существования. «Мы находимся между неведением и познанием, в обширной области с неопределенными и подвижными границами. Но стоит нам сделать шаг вперед (в познании предмета), как предмет удаляется и ускользает. Он вечно убегает от нас, и ничто не может его остановить. Таково наше естественное состояние, которое, однако, противоречит всем нашим склонностям. Мы сгораем от желания углубиться в природу вещей и воздвигнуть башню, вершина которой возносилась бы в бесконечность, но все наше сооружение рушится и земля разверзается у нас под ногами». В творчестве Брессона мы находим ту же жажду абсолютного, тот же ригоризм. Брессон достиг поразительного мастерства в воспроизведении и аранжировке материальных «видимостей» форм и звуков, предметов и фактур, теней и света, движений и жестов. Но чем большего совершенства достигает художник, тем более жестким, геометричным и замкнутым становится его мир - его «тюрьма». И если приговоренный к смерти еще может бежать, то куда деваться тому, кто приговорен к жизни? (Виктор Божович. «Современные западные кинорежиссеры», 1972)
Андре Базен. «'Дневник сельского священника' и стилистика Робера Брессона» (1951). Если «Дневник сельского священника» с почти осязаемой убедительностью утвердился как шедевр, если он волнует искушенного критика так же, как наивных зрителей, то причина заключается прежде всего в том, что этот фильм взывает к чувствам, к самым возвышенным формам духовного восприятия; сердце он затрагивает в еще большей мере, чем разум. Временная неудача «Дам Булонского леса» обусловлена обратным соотношением. Это произведение не может взволновать нас, пока мы не раскроем или хотя бы не ощутим его глубокий смысл, пока мы не поймем правил игры, которым оно подчиняется. Хотя удача «Дневника» и определилась сразу, эстетическая система, лежащая в основе этого успеха и обусловившая его, оказалась тем не менее не только самой парадоксальной, но, вероятно, и самой сложной из всего, что когда-либо нам предъявляло, звуковое кино. Отсюда лейтмотив высказываний критиков, которые неспособны понять фильм, но которым он все же нравится: «невероятно», «парадоксально», «беспримерный и неповторимый успех». Все эти оценки подразумевают отказ от истолкования и просто выражают бесспорное признание гениальной удачи. С другой стороны, у тех, чьи эстетические симпатии родственны вкусам Брессона и кого можно было заранее считать его сторонниками, нередко проскальзывает чувство глубокого разочарования, объясняемое, по-видимому, тем, что от него ожидали большей смелости. Эти люди не поняли и не оценили фильма потому, что были сначала обеспокоены, а затем раздражены мыслью о том, чего режиссер не сделал; они были слишком близки ему по духу, чтобы на ходу изменить свое суждение о нем, слишком поглощены проблемами его стиля, чтобы отнестись к фильму со всей непредвзятостью, обеспечивающей свободу эмоционального восприятия. Так определились два полюса критической «палитры»: с одной стороны те, кто меньше всего способны были понять «Дневник» и кому он именно поэтому особенно понравился (хотя они и не знали почему), с другой - «элита», которая ожидала чего-то иного, а потому не оценила произведение и плохо поняла его. В конце концов именно «чужие» кинематографу люди, такие представители «чистой литературы», как Альбер Бегин или Франсуа Мориак, удивленные тем, что им так понравился этот фильм, сумели отбросить предубеждения и лучше всех распознали истинные намерения Брессона. Следует признать, что Брессон сделал все, чтобы запутать следы. Провозглашенное им с самого начала намерение соблюдать верность первоисточнику, желание следовать книге фраза за фразой уже давно сосредоточили наше внимание именно в этом направлении. Фильм мог лишь подтвердить обещанное. В отличие от Жана Оранша и Пьера Боста1, которые стараются учесть кинематографическое видение и заботятся об установлении нового драматургического равновесия в экранизируемом произведении, Брессон не только не разрабатывает эпизодические персонажи, что, например, было сделано с ролями родителей в фильме «Дьявол во плоти», а, наоборот, устраняет некоторые из них. Он отбрасывает лишнее, обволакивающее самую суть, создавая таким образом впечатление верности первоисточнику, которая жертвует буквой оригинала лишь после тысячи сожалений и с самым ревнивым благоговением. При этом Брессон идет только по линии упрощения, никогда ничего не добавляя. Можно без преувеличения сказать, что сам Бернанос, будь он сценаристом, позволил бы себе по отношению к своей книге гораздо больше вольностей. Он предоставлял будущему автору экранизации право воспользоваться книгой в соответствии с кинематографическими требованиями, право «по-новому увидеть рассказанную им историю». И все же мы хвалим Брессона за то, что он был большим роялистом, нежели сам король, ибо его «верность» представляет собой по существу наиболее сокровенную и глубоко идущую форму творческой свободы. Нет сомнений в том, что экранизация невозможна без определенной транспонировки, и в этом отношении мнение Бернаноса было основано на эстетическом здравом смысле. Наиболее верные оригиналу переводы никогда не бывают буквальными. Изменения, которые Оранш и Бост внесли в роман «Дьявол во плоти», почти все совершенно оправданы. Увиденный камерой персонаж отличается от образа, описанного романистом. Поль Валери осуждал роман за то, что он непременно должен сказать: «Маркиза выпила чай в пять часов». С этой точки зрения романист может пожалеть кинематографиста, который вынужден вдобавок еще и показать маркизу. Поэтому, например, родители героев книги Радиге, играющие в романе самую второстепенную роль, приобретают на экране столь большое значение. Автор экранизации должен заботиться не только о персонажах и о том нарушении равновесия, которое вносит их физическое присутствие в последовательность событий; он не должен забывать и о тексте. Показывая то, о чем рассказывает романист, автор экранизации должен преобразовать в диалог все остальное, вплоть до самих диалогов. В самом деле, маловероятно, что значимость реплик, запечатленных на страницах романа, останется неизменной на экране. Если бы актер произносил их так, как они сформулированы в романе, их действенность и даже их значение оказались бы в результате искаженными. В этом и заключается парадоксальный эффект дословной верности тексту «Дневника». Если для читателя персонажи книги живут вполне конкретной жизнью, если мимолетность их упоминания в записках священника, кюре из Амбрикура ни в коей мере не воспринимается как недомолвка или как попытка ограничить их бытие и наше знакомство с ними, то Брессон, показывая этих же действующих лиц на экране, неизменно скрывает их от наших глаз. Могущество конкретного воспроизведения, свойственное роману, подменяется в фильме неизменной обедненностью изображения, которое кажется уклончивым просто потому, что оно не раскрывается. Книга Бернаноса изобилует красочными, конкретными, сочными, отчетливо зримыми образами. Например: «Господин граф вышел. Предлог: дождь. На каждом шагу вода хлестала из его высоких сапог. Три или четыре подбитых им кролика образовали на дне охотничьей сумки отвратительное на вид кровавое месиво с торчащими серыми клочьями меха. Он повесил ягдташ на стену, и я, слушая его, видел сквозь веревочную сетку еще влажный, очень кроткий глаз, пристально смотревший на меня из-под взъерошенного меха». У вас возникает чувство, что вы все это уже где-то видели. Не ищите в памяти: таким мог быть натюрморт Ренуара. Сравните приведенное описание со сценой фильма, где граф приносит в дом священника двух кроликов (правда, речь идет о другой странице книги, но именно этим и должен был воспользоваться автор экранизации и объединить обе сцены в одну, что позволило бы ему разработать первую в стиле второй). Если у вас осталось малейшее сомнение, то вполне достаточно признаний самого Брессона, чтобы его развеять. Будучи вынужденным выбросить из прокатного варианта примерно треть первоначально смонтированного материала, Брессон, как известно, заявил с вежливым цинизмом, что очень этому рад (по существу, единственный образ, который ему дорог, - это девственная пустота экрана в заключительном кадре. Но к этому мы еще вернемся). Будь он действительно «верен» книге, Брессон должен был бы создать по сути дела совсем другой фильм. Решив ничего не добавлять к оригиналу - что уже само по себе было утонченным способом искажения посредством умолчания, - Брессон, раз уж он решил ограничиться некоторыми сокращениями, мог бы по крайней мере пожертвовать наиболее «литературными» страницами и сохранить те многочисленные эпизоды, в которых фильм был как бы заранее задан и которые со всей очевидностью требовали визуального воспроизведения. Но он неизменно придерживался обратного. В результате именно фильм «литературен», а роман кишит зрительными образами. Еще более показательна манера использования текста. Брессон отказывается превращать в диалог (я не осмеливаюсь даже употребить слово «кинематографический») те страницы книги, на которых кюре воспроизводит по памяти какой-либо разговор. В этом уже заложен элемент неправдоподобия, ибо Бернанос ни в коей мере не гарантирует, что священник передает услышанное слово в слово; вполне вероятно именно обратное. Как бы то ни было, даже если допустить, что священник мог все точно запомнить, если считать, что Брессон решил сохранить в сиюминутности изображения субъективный характер воспоминания, то все равно смысловая и драматическая действенность реплики изменяется в зависимости от того, прочитана ли она или действительно произнесена. Режиссер и не пытается приспособить диалоги к потребностям игрового действия; больше того, в тех случаях, когда исходный текст наделен ритмом и уравновешенностью подлинного диалога, постановщик ухитряется помешать актеру как следует подать его. Многие драматургически превосходные реплики приглушаются монотонностью речи, навязанной исполнителю. Фильм «Дамы Булонского леса» хвалили за многое, почти не упоминая при этом экранизации как таковой. Критика фактически рассматривала фильм так, будто он основан на оригинальном сценарии. Исключительные достоинства диалога целиком и полностью приписывали Кокто, слава которого в этом вовсе не нуждалась. Дело в том, что критики не перечитали «Жака-фаталиста». Если бы они и не обнаружили там текст фильма по преимуществу, то во всяком случае почувствовали бы в самом фильме тонкую обработку подстрочника Дидро. Перенос действия в современность навел на мысль, которую никто не счел нужным досконально проверить, а именно: мысль о том, что Брессон весьма вольно обошелся с интригой, сохранив лишь основную ситуацию и, если угодно, своеобразный стиль XVIII века. Поскольку Брессон к тому же заслонил собой двух или трех авторов экранизации, можно было ожидать, что фильм еще дальше отойдет от оригинала. Поэтому я посоветовал бы поклонникам «Дам Булонского леса», а также будущим сценаристам пересмотреть фильм с этой точки зрения. Не умаляя решающей роли стиля постановки для успеха фильма в целом, очень важно уяснить, на чем этот успех основан. Я имею в виду удивительно тонкое сочетание взаимовлияний и контрапункт верности и нарушения литературной первоосновы. «Дам Булонского леса» упрекали (с большой долей здравого смысла и с неменьшим непониманием) в смещении психологии действующих лиц по отношению к социальной направленности интриги. Действительно, у Дидро именно нравы эпохи оправдывают выбор и эффективность мести героини. Верно и то, что в фильме эта месть подается как абстрактный постулат, обоснованности которого современный зритель уже не понимает. Все попытки благонамеренных защитников фильма обнаружить в действующих лицах хоть малейшую социальную сущность были бы тщетными. В романе проституция и сводничество - факты, социальная обусловленность которых конкретна и очевидна. В фильме та же обусловленность становится тем более таинственной, что она совершенно ни на чем не основана. Мщение уязвленной возлюбленной становится смехотворным, когда героиня ограничивается тем, что заставляет неверного жениться на очаровательной танцовщице из кабаре. Нельзя также оправдать абстрактность действующих лиц как результат точно рассчитанных эллипсов режиссуры, ибо абстракция заложена прежде всего в самом сценарии. Если Брессон не говорит более подробно о своих персонажах, то причина заключается не только в его нежелании, а в том, что он не может этого сделать; точно так же Расин не смог бы описать обои в апартаментах, куда удаляются его герои. Можно возразить, что классическая трагедия не нуждается в реалистических алиби, что в этом и заключается коренное различие между театром и кино. Что ж, несомненно, это так. Но именно поэтому Брессон создает свою кинематографическую абстракцию не просто из чисто событийной схемы, а из контрапункта реальности с нею же самой. В «Дамах Булонского леса» Брессон строил свои расчеты на смещении ориентации в результате перенесения одного реалистического повествования в другой, чуждый ему реалистический контекст. И вот результат: один реализм уничтожает другой, страсти высвобождаются из кокона, обволакивающего характеры; действие обретает независимость от алиби, навязанных развитием интриги; трагедия очищается от мишуры, свойственной драме. Достаточно было наложить шорох щетки, скользящей по ветровому стеклу автомобиля, на текст Дидро, чтобы получился диалог в духе Расина. Разумеется, Брессон никогда не показывает нам всей реальности до конца. Но его стилизация - не априорная абстракция символа; она складывается в единую диалектику конкретного и абстрактного благодаря взаимодействию противоречивых элементов изображения. Реальность дождя, шум потока, шорох земли, сыплющейся из разбитого горшка, цокот копыт по мостовой не противоречат ни упрощенности декораций, ни условностям костюмов, ни, тем более, литературному и анахроничному звучанию диалогов. Необходимость их вторжения нельзя свести к драматической антитезе или декоративному контрасту: они присутствуют просто в силу своей индифферентности, своей роли «посторонних», напоминающих песчинку, попавшую в машину, чтобы застопорить ее механизм. Если произвольность их выбора кажется абстрактной, то это абстракция абсолютной конкретности. Подобно бриллиантовой пыли, она прочерчивает изображение для того лишь, чтобы подчеркнуть его прозрачность. Это посторонняя примесь в ее чистом виде. Диалектический характер режиссуры отражается и в самих составных элементах, которые на первый взгляд могут восприниматься как чистая стилизация. Так, обе квартиры, в которых живут дамы, почти лишены мебели, но их умышленная обнаженность оправдана. От проданных картин остались одни рамки, но эти рамки, будучи деталью реалистической, сомнению не подлежат. Абстрактная белизна новой квартиры не имеет ничего общего с геометрией театрального экспрессионизма; квартира бела именно потому, что она заново отремонтирована, и в ней еще чувствуется запах свежей побелки. Нужно ли вспоминать лифт, телефон у консьержки или, если говорить о звуке, мужские голоса, раздающиеся после пощечины Аньес, причем произносимый ими текст предельно условен, тогда как само по себе звучание поразительно естественно? Я упоминаю фильм «Дамы Булонского леса» в связи с «Дневником» потому, что нелишне подчеркнуть глубокое сходство в обоих фильмах самого механизма экранизации, правильное представление о котором могут исказить явные различия в постановке и, видимо, значительно большая вольность, допущенная Брессоном по отношению к Дидро. Стиль «Дневника» свидетельствует о еще более последовательной изысканности, о почти невыносимой требовательности; этот стиль разрабатывается в совершенно иных технических условиях, но мы увидим в дальнейшем, что его цель по существу остается неизменной. Режиссер всегда стремится дойти до самой сути повествования или рамы, стремится достичь самой строгой эстетической абстракции без помощи экспрессионизма, основываясь лишь на сочетании литературы и реализма, которое обогащает возможности кино путем их кажущегося отрицания. Верность Брессона своей первооснове представляет собой лишь алиби свободы, украшенной цепями. Режиссер уважает букву произведения только потому, что она служит ему лучше излишних откровений: это уважение оказывается в конечном счете не столько изысканной помехой, сколько диалектическим элементом в создании стиля. Было бы поэтому напрасным упрекать Брессона за парадоксальную рабскую верность тексту, опровергаемую самим стилем режиссуры, ибо именно на этом противоречии и основывает Брессон силу своего воздействия. «Его фильм, - пишет Анри Ажель, - это, в конечном счете, нечто столь же невообразимое, как, скажем, страница Виктора Гюго, переписанная в стиле Нерваля». Но разве нельзя вообразить поэтические последствия такого чудовищного слияния? Разве нельзя вообразить необычный блеск не только такого перевода с одного языка на другой (например, перевод Эдгара По, сделанный Малларме), но и преобразования одного стиля и одной художественной материи в стиль другого художника и в материю другого искусства? Рассмотрим более внимательно, что же в «Дневнике сельского священника» может показаться недостаточно удавшимся. Не желая априори хвалить Брессона за все слабости его фильма, ибо среди них есть (в редких случаях) и такие, которые обращаются против него самого, могу все же сказать, что ни один из этих недостатков не чужд стилю режиссера. Они всегда представляют собой ту неловкость, какой может увенчаться самая утонченная изысканность, и если Брессону случается испытывать удовлетворение по этому поводу, то лишь потому, что он справедливо усматривает в такой неловкости залог более глубокой удачи. Это в полной мере относится к актерскому исполнению, которое в общем признано плохим, за исключением игры Лейдю и отчасти Николь Ладмираль; однако сторонники фильма утверждают, что это недостаток второстепенный. Следует все же объяснить, почему Брессон, который с таким мастерством работал с актерами в фильмах «Ангелы греха» и «Дамы Булонского леса», здесь производит подчас впечатление неловкого новичка, снимающего на 16-мм пленке и пригласившего на главные роли собственную тетушку и фамильного нотариуса. Можно ли думать, что легче было направлять игру Марии Казарес вопреки ее темпераменту, нежели руководить покорными любителями? Правда, некоторые сцены действительно плохо сыграны. Однако их никак нельзя считать наименее впечатляющими. Все дело в том, что этот фильм целиком выходит за рамки признанных категорий актерской игры. Но не следует заблуждаться относительно того, что почти все исполнители - любители или дебютанты. «Дневник» столь же далек от «Похитителей велосипедов», как и от «Артистического входа» (единственный фильм, который можно с ним сравнить, - это «Страсти Жанны д'Арк» Карла Дрейера). От исполнителей не требуется, чтобы они сыграли текст, литературный склад которого делает его практически неигровым; от них даже не требуется, чтобы они вжились в него - они должны лишь произносить его. Поэтому закадровый текст «Дневника» с легкостью переходит в то, что говорят действующие лица; здесь нет никакой существенной разницы ни в стиле, ни в тоне. Такой предвзятый подход противостоит не только драматической выразительности актера, но и всякой психологической выразительности вообще. Нас побуждают прочитать в лице актера не мгновенное отражение того, что он говорит, а некую непрерывность бытия, увидеть своего рода маску духовной судьбы. Вот почему этот «плохо сыгранный фильм» оставляет ощущение поразительной значительности человеческих лиц. Наиболее характерен в этом отношении образ Шанталь в исповедальне. Николь Ладмираль, вся в черном, стоит поодаль в полутьме; видна лишь серая маска лица, колеблющаяся между ночью и светом, стертая, как восковая печать. Подобно Дрейеру, Брессон уделяет особое внимание самым плотским чертам человеческого лица, которое в той мере, в какой оно не пытается что-либо изобразить, представляет собой наивысшее воплощение сути человека, легче всего поддающийся прочтению след души его; все в лице подчинено значимости символа. Оно является объектом не столько психологии, сколько экзистенциальной физиогномики. Отсюда особый характер актерской игры, подобной священнодействию, отсюда медлительность и неопределенность жестов, упорно повторяющееся однообразие поведения, отсюда замедленность действия, совершаемого словно во сне. С этими персонажами не может случиться ничего, что связывало бы их с окружающим, что носило бы характер относительности - настолько они погрязли в своем бытии, поглощенные в основном стремлением устоять против благодати или под ее палящими лучами вырвать старика-священника у снедающего его недуга. Они не развиваются; их внутренние конфликты, отдельные этапы их борьбы с Ангелом не выявляются вовне. То, что мы видим, скорее отражает мучительную сосредоточенность, бессвязные судороги родов или преображения. Если Брессон обнажает душу своих персонажей, то он делает это в прямом смысле слова. Будучи чуждым психологическому анализу, фильм не менее чужд категориям драматургическим. События выстраиваются в нем вопреки законам механики страстей, которая соответствовала бы требованиям разума; их чередование представляет собой проявление необходимости в случайном, сцепление независимых поступков и совпадений. Каждое мгновение, равно как и каждый план, довольствуются своей собственной судьбой, своей собственной свободой. Они, несомненно, имеют определенную направленность, но ориентируются независимо друг от друга, подобно крупинкам металлической пыли под магнитом. И если поневоле напрашивается слово «трагедия», то лишь из духа противоречия, ибо это может быть лишь трагедией свободной воли. Трансцендентность вселенной Бернаноса-Брессона нельзя сравнить ни с античным роком, ни даже со страстями трагедий Расина. Это трансцендентность всевышней благодати, от которой каждый волен отречься. И если тем не менее связь между событиями и причинная обусловленность характеров определены не менее строго, чем этого требует традиционная драматургия, то дело заключается в том, что они действительно подчинены определенному принципу, а именно: принципу пророчества, столь же отличного от фатализма, как причинность от аналогии. Подлинная структура, согласно которой развивается фильм, соответствует не столько построению трагедии, сколько литургическому действу страстей Господних или, еще точнее, Крестного хода. Каждый эпизод соответствует этапу пути. Ключ к пониманию этого мы находим в диалоге, который ведется в хижине между двумя священниками. В ходе этой беседы кюре из Амбрикура раскрывает свое духовное тяготение к масличной горе: «Разве недостаточно, что господь бог наш даровал мне милость и разъяснил ныне голосом моего старого наставника, что ничто на свете не вырвет меня из сего места, которое я избрал себе в вечности, что я - пленник святой агонии». Смерть - не роковое последствие агонии, а ее завершение, избавление от нее. Отныне мы понимаем, какому высшему велению, какому духовному ритму подчиняются страдания и поступки священника. Они отображают его агонию. Вероятно, нелишне указать на те аналогии с христианским учением, которыми изобилует конец фильма, ибо они могут пройти незамеченными. Таковы, например, два обморока в ночи, падение в грязь, рвота вином и кровью, в которых синтезируются при помощи поразительных метафор падение Христа, кровь Господня, губка, смоченная уксусом, и позорный плевок. Или еще: покрывало Вероники, - грязная тряпка Серафиты и, наконец, смерть в мансарде - этой жалкой Голгофе, где есть даже добрый и злой разбойники. Однако забудем эти аналогии, пересказ которых неизбежно связан с искажением. Их эстетическая ценность заключена в их теологической значимости; и та, и другая объяснению не поддаются. Поскольку Брессон, как и Бернанос, тщательно избегали символических намеков, постольку все ситуации, соответствие которых Евангелию несомненно, включены в фильм безотносительно к своему сходству с Писанием. Каждая из них имеет свое собственное и вполне реальное биографическое значение. Религиозное созвучие с христианским учением здесь вторично, оно является аналогией высшего порядка. Жизнь кюре из Амбрикура ни в коей мере не есть подражание жизни его Прообраза. Она лишь повторяет и воспроизводит ее. Каждый несет свой собственный крест, и каждый различен, но все они есть крест Господний. Холодный пот, проступающий на лбу священника, - пот кровавый. Вероятно, впервые кинематограф предлагает нашему вниманию фильм, в котором единственные реальные события и ощутимые действия исходят из внутренней жизни человека; более того, кинематограф предлагает нам новую драматургию, специфически религиозную, даже теологическую: это феноменология спасения души и святой благодати. Заметим, что в этой попытке подчинить себе психологию и драму Брессон диалектически подходит к двум типам реальности, взятой в чистом виде. С одной стороны, это, - как мы видели - лицо исполнителя, очищенное от всякой выразительной символики, обнаженное до предела, взятое в своем естестве без каких-либо ухищрений; с другой - то, что следовало бы назвать «реальностью написанного». Ибо верность Брессона тексту Бернаноса не просто отказ постановщика от малейшей его переработки, но и парадоксальное стремление подчеркнуть литературный характер этого текста; по существу, оно представляет собой ту же самую предвзятость, которая правит действующими лицами и декорациями. Брессон подходит к роману точно так же, как и к персонажам. Роман для него - исходный факт, данная реальность, которую ни в коем случае не следует пытаться приспособить к ситуации, не следует подчинять тем или иным мимолетным порывам чувства. Напротив, эту данность надо утвердить как таковую, в ее существе. Брессон порой опускает часть текста, но он никогда его не конденсирует, и все, что остается от урезанного текста, представляет собой фрагмент оригинала. Подобно тому, как глыбы мрамора берут свое начало в каменоломне, так и слова, произносимые в фильме, продолжают оставаться словами романа. Разумеется, умышленно подчеркнутые литературные обороты могут восприниматься как стремление к художественной стилизации, как полная противоположность реализму. Но в данном случае «реальность» - это не описание, не нравственное или интеллектуальное содержание текста, а сам текст как таковой, или вернее - его стиль. Вполне понятно, что эту возведенную в высшую степень реальность исходного произведения и реальность, непосредственно улавливаемую кинокамерой, невозможно точно подогнать одна к другой, они не могут продолжить друг друга или слиться воедино; наоборот, именно это сближение особенно ярко выявляет их разнородность по существу. Каждая играет свою параллельную роль, исполняя ее своими средствами, за счет собственной материи и стиля. Вероятно, именно благодаря такому разделению составных элементов, которые так хотелось бы соединить ради вящего правдоподобия, Брессону удается полностью исключить все случайное. Изначальное несоответствие между двумя рядами соперничающих фактов, которые сталкиваются на экране, выявляет их общий знаменатель, каковым является душа. Каждый говорит одно и то же, но различие в самом выражении, в манере, в стиле. То равнодушие, которое царит во взаимоотношениях между исполнителем и текстом, между словами и лицами, служит надежной гарантией их глубокой общности: слова, которые не могут сорваться с губ, поневоле становятся языком души. Пожалуй, во всем французском кино (и, быть может, следует сказать - во всей французской литературе?) найдется немного более прекрасных эпизодов, нежели сцена с медальоном между священником и графиней. Своей прелестью она, однако, ничем не обязана ни игре исполнителей, ни драматической или психологической значимости реплик, ни даже их внутреннему значению. Диалог, который подчеркивает борьбу между вдохновенным священником и отчаявшейся душой, по существу своему не поддается выражению. Решающие удары, наносимые в этом духовном поединке, ускользают от нас: слова свидетельствуют о жгучем прикосновении Благодати Божьей или предвещают ее. Тут нет ничего от риторики духовного обращения. И если неотразимая строгость диалога, его нарастающая напряженность, а затем финальное умиротворение дают нам уверенность в том, что нам посчастливилось быть свидетелями сверхъестественной бури, то произнесенные слова кажутся все же глухим провалом, отзвуком молчания, которое и было истинным диалогом этих двух душ, намеком на их тайну, или, если мы вправе позволить себе такое выражение - обратной стороной лика божьего. И если в дальнейшем священник не хочет оправдаться, показав письмо графини, то делает он это не из смирения или жажды самопожертвования, а скорее всего потому, что видимые знаки слишком ничтожны, чтобы защитить его или же обернуться против него. Свидетельство графини по существу не менее спорно, чем показания Шанталь, а свидетельство Божье призывать никто не вправе. Технику режиссуры Брессона можно по достоинству оценить лишь в свете его эстетических принципов. Сколь бы плохо мы ни изложили их, все же, быть может, теперь нам удастся лучше понять самый удивительный парадокс его фильма. Разумеется, заслуга первой смелой попытки столкновения текста с изображением принадлежит Мельвилю в его фильме «Молчание моря». Замечательно, что и в этом случае причиной было стремление к дословной верности литературному источнику. Впрочем, структура книги Веркора была сама по себе исключительной. В «Дневнике» Брессон не только подтверждает опыт Мельвиля, не только доказывает его правомочность, но и доводит его до крайности. Не следует ли сказать о «Дневнике», что это немой фильм с произносимыми вслух субтитрами? Мы уже видели, что слово не включается в изображение, как реалистический компонент; даже тогда, когда слово действительно произносится персонажем, оно звучит почти как оперный речитатив. На первый взгляд кажется, будто фильм составлен, с одной стороны, из текста романа (в сокращенном виде), и, с другой стороны, из иллюстрирующего его изображения, которое никогда не претендует на право заменить собой текст. Все то, что произносится - не показывается. Но все, что показывается, вдобавок еще и произносится. В конце концов критический здравый смысл побуждает упрекнуть Брессона в том, что он попросту подменяет роман Бернаноса звуковым монтажом текста и немой иллюстрацией. Чтобы как следует понять оригинальность и смелость Брессона, мы должны исходить именно из этой мнимой несостоятельности киноискусства. Прежде всего, если Брессон «возвращается» к немому кино, то делает он это - несмотря на обилие крупных планов - не для того, чтобы прибегнуть к театральной выразительности ввиду недостаточности фильма, а наоборот, чтобы вновь показать всю значительность человеческого лица в понимании Штрогейма и Дрейера. Ибо если и существовала одна-единственная ценность, которой звук действительно противостоял на первых порах, то это была синтаксическая тонкость монтажа и выразительность игры - иными словами, именно то, что возникло из-за недостаточности немого кино. Однако немому кинематографу в целом как раз недоставало желания утвердить эту ценность. В тоске по молчанию, которое могло бы стать благодатным источником визуальной символики, многие ошибочно принимают мнимое первородство изображения за подлинное призвание кинематографа, каковым в действительности является первородство предмета. Отсутствие звуковой дорожки в «Алчности», в «Носферату» или в «Страстях Жанны д'Арк» имеет совершенно противоположное значение, нежели молчание в «Калигари», «Нибелунгах» или в «Эльдорадо»: оно представляет собой недостаточность, а не источник выразительности. Первые из названных фильмов существуют вопреки молчанию, а не благодаря ему. В этом смысле появление звуковой дорожки представляет собой лишь случайный технический феномен, а не эстетическую революцию, как принято считать. Язык кино двусмыслен, подобно языку Эзопа; и вопреки внешней видимости существует единая история кино - до и после 1928 года: это история взаимоотношений между экспрессионизмом и реализмом. Звуку суждено было на время уничтожить экспрессионизм, пока ему не удалось к нему приспособиться, но зато он непосредственно вписывался в реализм как некое его продолжение. Сколь это ни парадоксально, в наши дни возрождение былого символизма следует искать именно в наиболее театральных, а следовательно, в наиболее болтливых формах звукового кино; по существу, реализм Штрогейма времен дозвукового кино не имеет последователей. А ведь опыт Брессона следует рассматривать именно в соотнесении со Штрогеймом и Ренуаром. Расхождение диалога и изображения, характерное для творчества Брессона, имеет смысл лишь в рамках углубленной эстетики реализма звука. В равной мере неправильно усматривать в нем иллюстрацию текста или комментарий к изображению. Параллелизм диалога и изображения по существу следует за раздвоением ощутимой действительности. Он продолжает брессоновскую диалектику абстракции и реальности, благодаря чему в итоге мы прикасаемся к единственной реальности - реальности душ. Брессон вовсе не возвращается к экспрессионизму немого кино: он исключает один из компонентов реальности, чтобы затем перенести его в умышленно стилизованном виде на звуковую дорожку, частично независимую от изображения. Иными словами, создается впечатление, будто в окончательной фонограмме сочетаются синхронные шумы, записанные как можно более точно, и постсинхронизированный монотонный текст. Но, как мы уже отмечали, этот текст является сам по себе реальностью второго порядка, неким «необработанным эстетическим фактом». Его реализм - это его стиль, причем стиль изображения заключается прежде всего в его реальности, а стиль фильма в целом - именно в несоответствии звукового и зрительного компонентов. Брессон окончательно разбивает приевшееся утверждение критики, будто изображение и звук никогда не должны дублировать друг друга. Наиболее волнующими моментами фильма оказываются именно те, в которых тексту надлежит выразить совершенно то же, что изображению, но все дело в том, что выражает он это иначе, по-своему. Действительно, звук никогда не служит здесь дополнением к увиденному событию: он усиливает и умножает его так же, как резонатор скрипки усиливает и умножает вибрации струн. Данной метафоре недостает, впрочем, диалектичности, ибо сознание улавливает не столько резонанс, сколько сдвиг, напоминающий сдвиг краски, неточно наложенной на рисунок. Именно в такой пограничной зоне и раскрывает событие свое значение. Благодаря тому, что весь фильм построен на этом соотношении, изображение и достигает такой эмоциональной силы, особенно в заключительной части. Напрасно стали бы мы искать источники поразительной красоты этого изображения лишь в логическом содержании. Я думаю, найдется мало фильмов, кадры которых, взятые в отдельности, вызывали бы большее чувство разочарования. Однако по мере развития действия отсутствие у многих кадров пластической композиции, натянутое и статическое выражение лиц персонажей полностью раскрывают свои достоинства. Впрочем, столь невероятное усиление их действенности зависит вовсе не от монтажа. Значимость кадра не зависит от того, что ему предшествовало и что за ним следует. Скорее можно сказать, что кадр аккумулирует статическую энергию, подобно параллельным пластинам конденсатора. В зависимости от этой энергии и от фонограммы устанавливается разность эстетических потенциалов, напряжение которой становится невыносимым. Изменение соотношения между изображением и текстом приводит в финале к преобладанию последнего, и изображение совершенно естественно, по велению неотвратимой логики, в последние мгновения совершенно исчезает с экрана. Брессон достиг точки, при которой изображение ничего больше добавить не может, и ему остается лишь исчезнуть. Зритель постепенно погружается в такой мрак чувств, единственно возможным выражением которого оказывается яркий свет на белом экране. Так вот к чему стремилось это якобы немое кино с его суровым реализмом! К распылению изображения и к конечному безраздельному торжеству текста романа. Со всей неопровержимой эстетической очевидностью мы оказываемся свидетелями наивысшей удачи чистого кино. Подобно тому, как белая, нетронутая страница Малларме или молчание Рембо воплощают наивысшее состояние языка, так и экран, очищенный от изображения и возвращенный литературе, знаменует торжество кинематографического реализма. На белом полотне экрана - черный крест, неловкий, как на извещении о смерти, единственный видимый след., оставшийся после смерти изображения, наглядно свидетельствует о том, что реальность могла обозначить лишь символически. «Дневник сельского священника» открывает новый этап в области экранизации. До сих пор фильм стремился подменить собой роман в качестве его эстетического перевода на другой язык. «Верность» означала в этом случае соблюдение духа первоисточника и в то же время поиск необходимых эквивалентов, обусловленный драматургическими требованиями зрелища или большей непосредственностью воздействия изображения. К сожалению, забота об удовлетворении этих требований - всего лишь весьма общее правило. И все же именно ей мы обязаны достоинствами таких фильмов, как «Дьявол во плоти» или «Пасторальная симфония». В лучшем случае подобные фильмы «достойны» книги, послужившей им образцом. За пределы этой формулы выходит вольная переработка, использованная Ренуаром в «Загородной прогулке» или в «Мадам Бовари». Но там проблема разрешается по-иному: оригинал представляет собой лишь источник вдохновения, а верность подлиннику определяется сродством темпераментов, глубокой симпатией кинематографиста к автору романа. В этом случае фильм не претендует на то, чтобы подменить собой роман, он предпочитает существовать рядом с ним, быть ему парой, подобно двойной звезде. Эта гипотеза, которая, впрочем, может реализоваться только при наличии гениальности, не исключает возможности создания кинематографического произведения, превосходящего литературный прообраз, как это было с фильмом Ренуара «Река». Однако «Дневник сельского священника» представляет собой нечто совсем иное. Свойственное ему диалектическое понимание верности источнику и творчества сводится в конечном счете к диалектике кинематографа и литературы. Здесь уже речь идет не о переводе, сколь бы верным и тонким он ни был; еще менее можно говорить о вольном вдохновении, основанном на любовном уважении к первоисточнику и ставящем перед собой цель создать фильм, дублирующий литературное произведение. Нет, речь идет о том, чтобы на основе романа средствами кино построить произведение второго порядка. Это не должен быть фильм, «сравнимый» с романом или «достойный» его, это должно быть новое эстетическое создание, своего рода роман, умноженный средствами кино. Единственной аналогичной попыткой являются, пожалуй, фильмы о живописи. Эммер2 или Ален Рене тоже верны оригиналу; их первичное сырье представляет собой совершенные творения рук художника, их реальность - не сюжет картины, а сама картина как таковая, подобно тому, как для Брессона реальностью является самый текст романа. Однако верность Алена Рене Ван Гогу, представляющая собой в первую очередь верность фотографическую, является лишь предварительным условием симбиоза кинематографа и живописи. Поэтому обычно художники в ней ничего не понимают. Попытка усматривать в подобных фильмах лишь умное, действенное, даже достойное уважения средство популяризации (каковым они являются вдобавок) - равнозначно непониманию их эстетического существа. Приведенное сравнение верно только отчасти, ибо фильмы о живописи изначально обречены на то, чтобы оставаться второстепенным эстетическим жанром. Они умножают возможности картин, продлевают их существование, дают им возможность выйти за свои собственные рамки, но они не могут претендовать на то, чтобы стать самой картиной3. «Ван Гог» Алена Рене - шедевр низшего порядка, основанный на живописном произведении высшего порядка, которое он использует и разъясняет, но не может заменить. Эта изначальная ограниченность зависит от двух основных причин. Прежде всего фотографическое воспроизведение картины, по крайней мере при помощи проекции, не может претендовать на то, чтобы заменить собой оригинал или отождествиться с ним. Даже если бы фотографическое воспроизведение было на это способно, результатом было бы лишь еще более полное уничтожение эстетической независимости живописного произведения, ибо фильмы о живописи исходят из отрицания основы, на которой эта эстетическая независимость зиждется и каковой служит ограничение пространства рамками картины и вневременность живописи. Кинематограф - искусство пространства и времени и, следовательно, является противоположностью живописи. Поэтому-то он и может кое-что к ней добавить. Между романом и кинематографом подобного противоречия не существует. Оба они представляют собой искусства повествовательные и, следовательно, временные, и даже априори нельзя утверждать, будто образ кинематографический чем-то ниже образа, запечатленного в книге. Гораздо вероятнее противоположное. Но вопрос состоит даже не в этом. Достаточно того, что романист, как и кинематографист, стремятся показать развитие событий в реальном мире. Исходя из этих важнейших проявлений сходства, можно считать, что намерение написать роман средствами кино не таит в себе ничего абсурдного. Однако «Дневник сельского священника» показал, что гораздо более плодотворно исходить из различий между романом и кинематографом, нежели из их общих свойств; более плодотворно подчеркивать существо романа при помощи фильма, нежели пытаться растворить его в фильме. О произведении второго порядка, которое возникает в результате этого на основе романа, недостаточно, пожалуй, сказать, что оно «соблюдает верность» оригиналу; оно прежде всего и есть сам роман. Более того, по-видимому, нельзя считать, что это новое произведение «лучше» книги (такое суждение не имело бы смысла), но оно, несомненно, «больше» книги. Если эстетическое наслаждение, доставляемое фильмом Брессона, по существу идет от таланта Бернаноса, оно содержит все же не только то, что мог дать роман, но еще и его отражение в кинематографе. После того, что создал Робер Брессон, можно считать, что Оранш и Бост сыграли в области экранизации такую же роль, как Виолле ле Дюк4 в архитектуре. Но не больше.
1 - Жан Оранш и Пьер Бост - сценаристы фильма «Дьявол во плоти» (реж. К. Отан-Лара, 1947) по повести Р. Радиге. Прим. пер. 2 - Лучано Эммер - итальянский режиссер, приобрел известность благодаря своим фильмам об искусстве. Прим. пер. 3 - Это справедливо по отношению к фильмам, созданным до «Тайны Пикассо» - картины, которая, как мы увидим, подрывает основы этого рассуждения. Прим. автора. 4 - Эжен Виолле ле Дюк (1814-1879) - французский архитектор, историк и теоретик архитектуры. Прим. пер. («Киноведческие записки» N17, 1993)
Да будет воля Твоя. Вера ушла, и мрак постепенно заполняет душу. На пороге маячат тени, они уже совсем близко... Бессилие и одиночество... Затягивающий омут тоски... безысходность. И нет теперь даже той преграды, которую раньше приходилось преодолевать, чтобы ощутить Его присутствие. Ты один несешь свой крест - небеса пусты. Трепетная незащищенность и удивительная глубина этого взгляда, отражающего в себе все оттенки чувств, говорит больше, чем монотонный закадровый голос, с беспощадной и неумолимой честностью обнажающий всю боль и отчаяние телесной немощи. Боже, Боже, зачем Ты оставил меня... Это состояние богооставленности, многократно засвидетельствованное христианским опытом, может быть впервые так буквально и откровенно показано кинематографом. Но исповедь, записанная на страницах тетради и как бы открытая для всех, однако удивительным образом оказывается утаенной от поверхностного взгляда. 'Дневник сельского священника' может казаться маловыразительным и образно бедным в своей лаконичности, но именно к такой 'аскетической' манере изложения и стремится режиссер, убирая из литературного первоисточника все 'лишнее', внешнее, яркое, приглушая пестроту жизненного многообразия и как бы превращая в фон все то, что не имеет прямого отношения к внутренней работе человеческой души, которая и является по сути основным содержанием брессоновских картин. Благодаря такой манере изложения на первый план выступает духовная жизнь человека, трансцендентная природа его стремлений и надежд. Подобным способом подачи сюжета Робер Брессон создает своеобразный кинематографический аналог обратной перспективы, вырабатывает стиль, который можно назвать 'иконичным'. Экранизируя одноименное произведение Жоржа Бернаноса, режиссер пытается максимально точно следовать 'духу' книги, главная сюжетная линия которой достаточно проста. Молодой кюре, искренне желающий посвятить себя Богу и людям, приезжает в вверенный ему бедный церковный приход с искренним желанием достойно начать свое первое пасторское служение. Но встречает по отношению к себе лишь холод и отчуждение. Вскоре выясняется, что он смертельно болен... И перед глазами зрителя разворачивается невидимая, но тяжелая и мучительная борьба воли и веры человеческой с непрерывными ударами судьбы, людскими наветами и искушениями духа, на фоне которых отчетливо начинает проступать другая внутренняя реальность, может быть, более значимая, чем внешние события фильма. Ведь символический ряд картины выстроен по принципу Литургии или крестного хода, и кюре из Амбрикура в течение всего повествования буквально повторяет этапы пути Христа на Голгофу. Понимание такой зависимости, неслучайности страданий, такой 'обреченности вечной агонии' приходит к священнику постепенно, через осознание высшей предопределенности своего мученического пути. Эта евангельская тема пришедшей в мир красоты, неузнанной и попранной, но умалившей себя до конца, пронизывает весь фильм, в котором вечному образу князя Мышкина даруется 'благодать', а желание помогать людям приносит свои плоды. И действительность этого дара духовного исцеления очень явственно показана в центральной сцене разговора кюре и графини, где зритель становится свидетелем того, как постепенно раскрываются двери той внутренней темницы, куда отчаявшаяся женщина как бы затворилась от Бога и людей наедине со своим безвременно умершим сыном. Именно такую скрытую духовную борьбу и стремится передать режиссер. И ему действительно удается показать тайну возрождения человеческой души. Духовная нищета, в которой с такой беспощадностью к себе признается кюре, то внешнее, кажущееся бессилие и физическая немощь, дающие основание окружающим людям обвинять его в слабости характера, между тем скрывают настоящую внутреннюю силу. Он 'из той породы, что умеет не сдаваться', - говорит про него один из героев картины. Этот несгибаемый внутренний стержень, характерный для многих героев брессоновских фильмов, непреклонность и верность избранному пути, вместе с предельной уязвимостью, чистотой и открытостью души создает удивительный образ истинной, в страданиях и сомнениях рожденной праведности в нашем больном и искаженном мире. Впечатляют та воля и дерзновение, с которыми молодой священник вновь и вновь, несмотря на давление обстоятельств и времени, пытается жить так, как было заповедано Богом, забывая о себе и всецело, вплоть до последней минуты своей жизни, отдавая себя людям. И сам этот отчаянный порыв, усилия и муки на пути к тому, что он считает истинным и единственно важным в этом мире, едва ли не значительнее и сильнее действуют на человеческие сердца, чем уже состоявшаяся святость, порой непонятная и далекая. Он как горящая свеча, поставленная на виду у всех, - от нее можно отвернуться, но не заметить ее невозможно. И герои фильма тянутся к нему, порой ненавидя и сопротивляясь, подобно дочери графа или ученице Серафите. Но где-то в глубине они знают, что его внутреннее тепло способно растопить их замерзшие, истосковавшиеся по любви души... Но как все-таки страшно умирать - этот страх не уходит до самого конца, здесь, в этой пыльной мансарде чужого дома, в одиночестве, на старых лоскутьях бедной кровати. Тоска не отпускает, последний пустой листок, теперь уже бесполезный, падает на пол, а мрак застилает глаза... И как прекрасна жизнь, как хороши рассветы с пением птиц за окном, как благословенна молодость, риск и сильный веселый ветер, бьющий в лицо при быстрой езде. Каким стало вдруг все свежим и чистым... Господи, да будет на все Твоя воля. (Irineia)
Великая иллюзия. Робер Брессон - это имя уже давно стало легендой. Его творения считаются одной из вершин кинематографического мастерства. Ленты Брессона повлияли на творческую формулировку многих других гениев, в списке которых значится, например, Андрей Тарковский. «Дневник сельского священника» - третья его полнометражная работа, в которой отражается то взаимодействие этики и эстетики, которое будет проявляться во всех остальных лентах маэстро. Здесь и философские темы, и новаторские способы повествования, и аскетическая манера съемок, одним словом, все то, что в совокупности составляет «Брессоновский кинематограф». Жизнь, Смерть, Бог - вот эти три темы, составляющие своеобразный «Бермудский треугольник», в котором пропала не одна человеческая душа, занимал ум Брессона. Подобной одержимостью поисков смысла бытия в то время мог похвастаться разве что Ингмар Бергман. Но если последний проводил поиски смысла жизни индивида на фоне трепетного ожидания смерти, которая непременно превратит его в «одного из...», то Брессон предпочитал несколько иной маршрут. Воплощение французского кинематографа, как однажды охарактеризовал Робера Жан-Люк Годар, пытался сперва найти место человека среди людей. Отложив важность того, что было в жизни, в контексте того, что жизнь закончится, Брессон вычисляет координаты точки, обозначающей человека в уже упомянутом треугольнике, стороны которой порой комбинируют настолько острые углы, что немудрено «порезаться». На первый взгляд может показаться, что метафизика Брессона не имеет под собой никакой фундаментальной основы, однако, как бы парадоксально это не звучало, отсутствие таковой и является ею. Нет никаких неоспоримых фактов, бесспорных доказательств и точных данных, есть только ты и твоя вера. Но вера должна подпитываться, иначе превратится в надежду, а надежда, в свою очередь, со временем перетечет в самообман. Молодой священник приезжает в маленький город, в котором ему придется работать. Но буквально сразу же начинаются проблемы; жители этого города сначала не воспринимают его всерьез, а затем и вовсе делают из него изгоя. Попытки заслужить расположение этих людей становится первостепенной задачей, духовная жизнь отходит на второй план. Переживания юного священника сказываются на его здоровье, причем как в психологическом, так и физиологическом плане. Начавшая сомневаться в собственной вере жертва безжалостных палачей, которые просто-напросто не могут принять человека, лишенного слабостей и пороков, садится на диету, состоящую из вина и хлеба, чтобы привести в порядок желудок. Но на деле все становится все хуже и хуже... Библейские мотивы на лицо. Да и весь фильм в целом представляет собой аллегорическую притчу, в которой иносказательный смысл доминирует над буквальным. Чтобы отделить одно от другого, Брессон проигрывает действие несколько раз (в основном дважды, но иногда гораздо больше). Это делается с помощью дневника, который ведет священник. Сначала мы слышим закадровый голос, который, читая рукопись, рассказывает нам о том или ином событии, а затем мы видим это самое событие в визуализированном виде. Таким образом, событие отделяется от его восприятия, и зритель, который уже знает, что произошло, ищет в произошедшем некий подтекст, метафорическую суть. Весьма утонченным образом побеждая в себе католика, Брессон переступает некую невидимую черту, вступая в зону, где до него еще никто не был. Там он с деликатностью скульптура лепит свое детище, в котором нет абсолютно ничего лишнего, и это при том, что фильм идет чуть меньше двух часов (крайне длинный хронометраж для Брессона, все остальные его фильмы длятся от 60 до 90 минут). Врагом веры является вовсе не наука, а, как ни странно, религия, которая, являясь некой формой для более удобного восприятия неземных понятий, не просто сковывает и ограничивает, а попросту убивает веру, превращая ее в совокупность определенных ритуалов и традиций. При этом Брессон ясно дает понять, что корень все зол не в религии, а том, во что мы ее превратили. Отсюда и крест в самом конце ленты, который вроде бы никак не связан с его содержанием, но при этом воспринимается как нечто само собой разумеющееся, как логический итог. А логика заключается в том, что каждый будет трактовать данный символ по-своему, в зависимости от того, во что он верит, на что надеется, чем себя обманывает... P.S. Хотел процитировать в рецензии что-нибудь и разрывался между стихотворением Галича «Псалом» и песней «Второе стеклянное чудо» группы «Аквариум». Так и не смог сделать выбор. (Гор Мелконян)