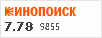ОБЗОР «СМЕРТЬ В ВЕНЕЦИИ» (1971)
Композитор Густав фон Ашенбах (Дирк Богард), переживающий глубокий творческий и жизненный кризис, прибывает на остров Лидо, расположенный недалеко от Венеции. Среди гостей фешенебельного отеля внимание постояльца привлекает юный поляк Тадзио (Бьорн Андресен), приехавший на курорт вместе с матерью (Сильвана Мангано) и другими членами своей аристократической семьи, и композитор помимо воли оказывается во власти губительного наваждения... (Евгений Нефедов)
Переживающий духовный кризис, композитор Ашенбах приезжает на курорт близ Венеции. Внезапно его поражает и привлекает красота подростка Тадзио, сына польской аристократки. Смущенный своими чувствами, Ашенбах порывается уехать, но потеря багажа вынуждает его вернуться... Потрясающая по красоте картина Лукино Висконти - размышление об эфемерности всего прекрасного: любви, юности, красоты; о неизбежности смерти...
Главный герой, композитор Густав фон Ашенбах, стараясь убежать от творческих терзаний и бытовых неудач, приезжает весной 1911 года на курорт Лидо. Однако и здесь Ашенбаху не суждено обрести душевный покой - однажды он встречает изумительно красивого мальчика Тадзио, чья юность и привлекательность очаровывают композитора с первого взгляда. Юноша становится для Ашенбаха символом всего того, чего так не хватает ему самому. Густав не может себе запретить любоваться Тадзио, но в то же время осознает невозможность их союза. Чувство безысходности и обреченности усугубляется смертельной болезнью Ашенбаха, тем не менее он решает провести свои последние минуты, любуясь красотой Тадзио...
КАННСКИЙ КФ, 1971
Победитель: Юбилейный приз в честь 25-летия Каннского фестиваля (Лукино Висконти).
Номинация: «Золотая пальмовая ветвь» (Лукино Висконти).
ОСКАР, 1972
Номинация: Лучшие костюмы (Пьеро Този).
БРИТАНСКАЯ АКАДЕМИЯ КИНО И ТВ, 1972
Победитель: Лучшая работа оператора (Паскуалино Де Сантис), Лучшая работа художника (Фердинандо Скарфьотти), Лучшие костюмы (Пьеро Този), Лучший звук (Витторио Трентино, Джузеппе Муратори).
Номинации: Лучший фильм, Лучший режиссер (Лукино Висконти), Лучший актер (Дирк Богард).
ДАВИД ДОНАТЕЛЛО, 1971
Победитель: Лучший режиссер (Лукино Висконти).
БОДИЛ, 1972
Победитель: Лучший европейский фильм (Лукино Висконти).
ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС (ИТАЛИЯ), 1971
Победитель: Лучший фильм (Лукино Висконти).
ПРИЗ ЖУРНАЛА «КИНЕМА ДЗЮНПО», 1972
Победитель: Лучший фильм на иностранном языке (Лукино Висконти), Лучший режиссер фильма на иностранном языке (Лукино Висконти).
ИТАЛЬЯНСКИЙ СИНДИКАТ КИНОЖУРНАЛИСТОВ, 1972
Победитель: Лучший режиссер (Лукино Висконти), Лучшая работа оператора (Паскуалино Де Сантис), Лучшая актриса второго плана (Сильвана Мангано), Лучшая работа художника (Фердинандо Скарфьотти), Лучшие костюмы (Пьеро Този).
Номинация: Лучший актер второго плана (Ромоло Валли).
ПРЕМИЯ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ, 1973
Победитель: Лучший иностранный фильм (Лукино Висконти).
ПОЛЬСКАЯ КИНОПРЕМИЯ, 2011
Номинация: Лучший европейский фильм.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ КИНОКРИТИКОВ США, 1972
Победитель: Лучшая десятка фильмов.
ФРАНЦУЗСКИЙ СИНДИКАТ КИНОКРИТИКОВ, 1972
Победитель: Лучший иностранный фильм (Лукино Висконти, Италия).
Второй фильм «немецкой трилогии» Лукино Висконти (1906-1976 https://it.wikipedia.org/wiki/Luchino_Visconti), в которую также входят: «Гибель богов» (1969 ) и «Людвиг» (1973 ).
По мотивам одноименной новеллы («Der Tod in Venedig», 1911 https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Tod_in_Venedig) немецкого писателя Томаса Манна (1875-1955 https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Mann).
Манн планировал написать историю о «страсти как помрачении рассудка и деградации», навеянную историей любви 72-летнего Гете (1749-1832 https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe) к 17-летней Ульрике фон Леветцов (1804-1899 https://de.wikipedia.org/wiki/Ulrike_von_Levetzow). Также писатель находился под впечатлением от кончины австрийского композитора Густава Малера (1860-1911 https://de.wikipedia.org/wiki/Gustav_Mahler): "На замысел моего рассказа немало повлияло пришедшее весной 1911 года известие о смерти Густава Малера, с которым мне довелось познакомиться раньше в Мюнхене; этот сжигаемый собственной энергией человек произвел на меня сильное впечатление. В момент его кончины я находился на острове Бриони и там следил за венскими газетами, в напыщенном тоне сообщавшими о его последних часах. Позже эти потрясения смешались с теми впечатлениями и идеями, из которых родилась новелла, и я не только дал моему погибшему оргиастической смертью герою имя великого музыканта, но и позаимствовал для описания его внешности маску Малера...".
Новелла «Смерть в Венеции» отчасти биографична. Томас Манн действительно пережил эпидемию холеры, только не в Венеции, а в Данциге (сегодняшнем Гданьске). В Венеции, которую он описывает, писатель был в 1911 году вместе со своей семьей. Там, судя по всему, он и познакомился с прототипом Тадзио. В середине 1960-х наследник польских аристократов Владислав Моес (1900-1986 https://en.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Moes) рассказал журналистам, что Манн писал Тадзио с него.
Читать новеллу: http://www.lib.ru/INPROZ/MANN/venecia.txt; https://snob.ru/entry/150953/; https://lib.misto.kiev.ua/INPROZ/MANN/venecia.dhtml; https://www.litmir.me/bd/?b=19080; https://librebook.me/death_in_venice; http://loveread.ec/view_global.php?id=67866; https://www.mnogobook.ru/proza-main/klassicheskaya_proza/35568.htm; https://knigga.org/klassicheskaya-proza/smert-v-venecii-tomas-mann.html. Оригинальный текст - http://www.gutenberg.org/ebooks/12108.
"Прежде всего: я не нахожу, что-то, о чем говорит мне Манн в 'Смерти в Венеции', так жестко датировано в том смысле, что сегодня уже превзойдено. Я бы сказал, тема этой новеллы - а ее можно переосмыслить как тему 'смерти искусства' или как тему превосходства 'политики' над 'эстетикой' - все еще остается современной" - Лукино Висконти.
Берт Ланкастер (https://en.wikipedia.org/wiki/Burt_Lancaster снимавшийся в «Леопарде», 1963 Висконти) очень хотел сыграть Ашенбаха, но после съемок «Гибели богов» режиссер окончательно определился с выбором актера на главную роль, предложив ее Дирку Богарду (1921-1999 https://en.wikipedia.org/wiki/Dirk_Bogarde).
Известная итальянская актриса Сильвана Мангано (1930-1989 https://it.wikipedia.org/wiki/Silvana_Mangano) сама выразила желание сыграть второстепенную роль матери Тадзио, не требуя гонорара.
Вторая работа в кино шведского актера Бьорна Андресена (https://en.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B6rn_Andr%C3%A9sen), которому на момент съемок было 15 лет. Андресен дебютировал в картине Роя Андерссона «Шведская история любви» (1970 https://www.imdb.com/title/tt0065955/).
Документальный фильм Лукино Висконти «В поисках Тадзио» (1970 https://www.imdb.com/title/tt0209906/) с рус. субтитрами - https://youtu.be/Kqm1vKS214E.
За роль Тадзио Андресен получил $5,000.
Американский историк кино Лоуренс Дж. Куирк (https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_J._Quirk) в свой книге «Великие романтические фильмы» (1974) написал, что некоторые кадры с Бьорном Андресеном из этого фильма, можно было бы повесить на стенах Лувра или в музеях Ватикана. По его мнению Андресен - символ красоты, вдохновлявшей Микеланджело и Да Винчи.
Съемочный период: 27 апреля - 2 августа 1970.
Бюджет: $2,000,000.
Место съемок: Венеция https://it.wikipedia.org/wiki/Venezia (Венето); Больцано https://it.wikipedia.org/wiki/Bolzano, Доломитовые Альпы https://it.wikipedia.org/wiki/Dolomiti (Трентино-Альто-Адидже); студия «Cinecitta» https://it.wikipedia.org/wiki/Studi_di_Cinecitt%C3%A0 (Рим, Лацио). Фото, инфо (англ.) - http://www.movie-locations.com/movies/d/Death-In-Venice.php.
Лидо, или Венецианский Лидо (Lido di Venezia https://it.wikipedia.org/wiki/Lido_di_Venezia) представляет собой узкий песчаный остров длиной 12,2 км (площадь 4 км2), отделяющий Венецианскую лагуну (https://it.wikipedia.org/wiki/Laguna_di_Venezia) от Адриатики. Ежегодно в конце августа - начале сентября на Лидо проходит Венецианский кинофестиваль (https://it.wikipedia.org/wiki/Mostra_internazionale_d%27arte_cinematografica).
Кадры фильма: https://www.blu-ray.com/Death-in-Venice/182041/#Screenshots; https://www.cinemagia.ro/filme/morte-a-venezia-moarte-la-venetia-3900/imagini/; http://www.cineol.net/imagenes/pelicula/6625_Muerte-en-Venecia; https://www.virtual-history.com/movie/film/27792/morte-a-venezia.
Саундтрек («Beat Records» CDF 073, 1990): 1. Adagietto Della 5 Sinfonia [Gustav Mahler | Orchestra Dell'Accademia Di S. Cecilia conducted by Franco Mannino]; 2. Tema Dei Ricordi [Ludwig van Beethoven | Piano: Claudio Gizzi]; 3. Колыбельная [Модест Мусоргский | Soprano: Masha Predit]; 4. IV Tempo Della 3 Sinfonia [Gustav Mahler | Contralto: Lucrezia West, Orchestra Dell'Accademia Di S. Cecilia conducted by Franco Mannino]; 5. Canti Nuovi (Chi Con Le Donne Vuole Aver Fortuna) [Armando Gil | Gruppo Folkloristico]. Также в фильме звучат: Lippen schweigen 'Merry Widow Waltz' [Franz Lehar]; Fur Elise [Ludwig van Beethoven | Claudio Gizzi].
Информация об альбомах с саундтреком: http://www.soundtrackcollector.com/catalog/soundtrackdetail.php?movieid=36449; https://www.soundtrack.net/movie/death-in-venice/.
Adagietto из 5-й симфонии Густава Малера настолько слилась в восприятии зрителей с фильмом Висконти, что и до сих пор традиционно сопровождает виды Венеции во многих телепередачах.
Цитаты - https://citaty.info/movie/smert-v-venecii-morte-a-venezia и текст фильма: http://cinematext.ru/movie/smert-v-venecii-morte-a-venezia-1971/, http://vvord.ru/tekst-filma/Smertj-v-Venecii/.
В картине есть отсылка к предыдущему кинофильму Висконти («Гибель богов», 1969 )
Премьера: 1 марта 1971 (Лондон), 5 марта 1971 (Милан), 4 июня 1971 (Париж).
Англоязычное название - «Death in Venice», во французском прокате - «Mort a Venise».
Слоган: «The celebrated story of a man obsessed with ideal beauty».
Трейлер: https://youtu.be/0iK6uuj7cq0, https://youtu.be/-pxn49yWVJk.
Марк Бернс (1936-2007 https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Burns_(actor)), сыгравший Альфреда позже признался, что никогда не понимал значение диалога своего персонажа и Ашенбаха в середине фильма.
Обзор изданий картины: http://www.dvdbeaver.com/film/DVDReviews10/death_in_venice_blu-ray.htm; https://www.blu-ray.com/Death-in-Venice/182041/#Releases.
«Смерть в Венеции» на Allmovie - https://www.allmovie.com/movie/v12944.
О фильме в каталоге Американского института киноискусства - http://catalog.afi.com/Catalog/MovieDetails/54422 и Британского института кино - http://collections-search.bfi.org.uk/web/Details/ChoiceFilmWorks/150030870.
«Смерть в Венеции» на итальянских: http://www.archiviodelcinemaitaliano.it/index.php/scheda.html?codice=AG3068, https://www.cinematografo.it/cinedatabase/film/morte-a-venezia/22888/, https://quinlan.it/2018/09/24/morte-a-venezia/, https://cinemaitalianodatabase.com/2017/09/22/morte-a-venezia-1971-di-luchino-visconti-recensione-del-film/ и французских сайтах о кино: http://cinema.encyclopedie.films.bifi.fr/index.php?pk=43891, https://www.unifrance.org/film/47925/mort-a-venise, https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=96298.html.
О картине на сайте Criterion Collection - https://www.criterion.com/films/28699-death-in-venice.
На Rotten Tomatoes у фильма рейтинг 71% на основе 24 рецензий (https://www.rottentomatoes.com/m/1005512-death_in_venice).
«Смерть в Венеции» входит во многие престижные списки: «1000 лучших фильмов» по версии критиков The New York Times; «Лучшие фильмы» по версии сайта They Shoot Pictures; «1000 фильмов, которые нужно посмотреть, прежде чем умереть» по версии газеты Guardian (226-е место); «Лучшие фильмы» по мнению кинокритика Сергея Кудрявцева; «Рекомендации ВГИКа».
Рецензии: https://mrqe.com/movie_reviews/morte-a-venezia-m100048059; https://www.imdb.com/title/tt0067445/externalreviews.
Обсуждение фильма (Ури Гершович и Дмитрий Мамулия, 2013) - https://youtu.be/fpBSVBdTphE.
«Смерть в Венеции» спародирована в лентах «Малер» (1974 https://www.imdb.com/title/tt0071797/), «The ADS Epidemic» (1987 https://www.imdb.com/title/tt11963668/), «Стиснув зубы» (1998 https://www.imdb.com/title/tt0120210/), «Я, Эрл и умирающая девушка» (2015 https://www.imdb.com/title/tt2582496/).
Игорь Кон. «Лунный свет на заре»/«Гомосексуальная тема в кино» (2003) - http://www.pseudology.org/Kon/LunnySvetNaZare2/27.htm.
ДИРК БОГАРД. КАК Я РАБОТАЛ С ВИСКОНТИ [...] Дирк Богард (род. в 1921 году) - выдающийся актер, гордость английской сцены и мирового кинематографа. личность незаурядная - об этом говорит и тот факт, что свой путь в искусство он начинал под руководством великого скульптора Генри Мура, обучаясь у него в Королевском колледже в Лондоне, а главные роли своей творческой биографии сыграл у таких корифеев серьезного кино, как Лоузи («Слуга», «За короля и отечество», «Модести Блэйз», «Несчастный случай»), Висконти («Гибель богов», «Смерть в Венеции»), Фасбиндер («Отчаяние»), Шлезингер («Дорогая»), Рене («Провидение»), Кавани («Ночной портье»). О человеческой и художнической тонкости Богарда, о его наблюдательности и психологическом чутье свидетельствуют и те заметки из книги артиста, которые мы публикуем. [...]
За столом мы обсуждали главным образом мерзавцев братьев Уорнер и те купюры, которые они требовали сделать в нашем фильме. Висконти протянул мне пакет, обернутый в черную с золотом бумагу. В руках у меня оказалась книга в мягкой обложке «Смерть в Венеции». - Будем делать с тобой фильм. Не возражаешь? Я наблюдал за тобой в первый день съемок «Гибели богов». Ты сделал шесть дублей и все разные. Без слов, сама душа. Я видел. И понял, что нашел своего актера. Voila! Я обещал сделать тебе подарок - и вот ты его получил. Molto bene1, но ты больше ни за что не берись, обещаешь? - Конечно, я буду ждать, сколько скажешь. - Начинай готовиться прямо сейчас. Послушай всю музыку Малера, всю. Снова и снова. Мы должны проникнуть в его одиночество, бесприютность. Слушая музыку, ты это поймешь. И читай, читай, читай книгу. Больше ничего не нужно. Надо проникнуться книгой. Я ничего не буду объяснять. Манн и Малер сами все скажут. И когда придет час, ты будешь готов. ...Пять месяцев я провел в странном уединении. Я почти не общался с актерами, вообще ни с кем из съемочной группы, даже с Висконти. Я жил будто в чистилище. Целыми днями просиживал на острове Лидо в маленькой купальне, в томительном одиночестве, подобно самому фон Ашенбаху. Я уже ощущал себя им до кончиков ногтей, мое тело стало вместилищем его души. Главная моя цель, которую все понимали и уважали, заключалась в том, чтобы пребывать в состоянии глубочайшей сосредоточенности, нежно оберегая эту чужую душу, поселившуюся во мне. Она была очень хрупкой, и меня не покидал страх, что в какой-то момент она ускользнет прочь. Но она оставалась во мне. И потом даже на прогулке по тихим городским площадям, переодетый в джинсы и майку, я сохранял его походку и повадки, которые могли бы позабавить случайного прохожего, не ведающего, что не я, а некто другой - отрешенный от мира сего, одержимый своими мыслями человек шел мимо него. Мои отношения с Висконти складывались необычно. Мы словно слились воедино в мире полного молчания. Мы редко разговаривали, а о фильме не обменивались ни единым словом. Я инстинктивно чувствовал, когда он был готов, он знал, когда готов я. Чаще всего мы прибегали к языку жестов: если он поднимал брови, это значило, что я могу начинать. Стоило мне качнуть головой, как он садился закурить очередную сигарету, ожидая, пока я приду в нужное состояние, трону его за руку и ступлю на площадку. Мы почти не снимали дублей - изредка он цедил сквозь зубы «аnсог»2, и мы повторяли сцену - и это все, что обычно произносилось на площадке, да и то нечасто. Однажды я попросил уделить мне полчаса и обсудить роль. Он с ворчанием согласился и, предложив мне вина, стоявшего перед ним на столе, осведомился, сколько раз я прочитал книгу. Когда я ответил, что не меньше тридцати, он посоветовал прочесть ее еще тридцать, и на том дело кончилось. Но, сидя в своей купальне на пляже, я не настолько отрешился от мира, чтобы совсем ничего вокруг не замечать. Например, однажды я случайно обратил внимание на то, что у многих членов нашей съемочной группы - бутафоров, ассистентки, монтировщика - появились на коже аккуратные белые пятнышки величиной с почтовую марку. Я не придал этому особого значения, но дня через три-четыре, заметив увеличение числа тех, у кого на руках, ногах, а то и на лбу виднелись эти квадратики, спросил моего гримера Мауро, в чем дело. Его уклончивый ответ усилил мое беспокойство. Они пробовали новый грим. Приглядевшись повнимательней, я обнаружил, что пятнышки появляются на самых чувствительных участках кожи. Тревога моя росла, потому что более всего из числа трудностей, которые подстерегали меня на съемках, меня пугала предстоящая финальная сцена смерти, которую Висконти готовил к самому концу работы в Венеции. Этот момент неотвратимо приближался. И я понял, что они так испытывают специальный грим - тот самый, который пойдет на мою смертную маску: она должна была медленно покрываться трещинками, символизируя увядание, старость, разрушение и окончательный распад - смерть. Я по обыкновению хранил молчание и только с растущим страхом наблюдал каждодневное распространение пятнышек среди участников съемки. Гром над моей головой грянул однажды утром, душным и жарким от дыхания сирокко. Море было серым и спокойным, ветер шал по пляжу горячий песок, жара стояла почти невыносимая. Это была идеальная погода для великого финала, задуманного Висконти. - Сегодня свет идеален... настоящий сирокко... это тебе поможет... жара; тебе дурно, ты стар; помни, как написано у Манна, губы у тебя сочные, как клубника... краска сошла с лица... когда ты улыбнешься Тадзио, несчастное лицо твое покроется морщинами, и ты умрешь... я говорю тебе все это, потому что, когда наложат грим, ты не сможешь разговаривать, лицо будет стянуто маской смерти... поэтому сделаем только один дубль. - А что это будет за грим? - Очень хороший. Мы его как следует проверили. Он оставил меня на попечение Мауро, который держал в руке толстый серебряный тюбик с чем-то белым, и, когда он меня этим намазал, лицо тут же загорелось огнем, и всю кожу стянуло. Протестовать было поздно; два часа я просидел неподвижно, пока состав закрепился на моем измученном лице. Прежде чем Мауро успел зайти слишком далеко, я сумел предупредить его, чтобы он по крайней мере не накладывал грим близко к глазам, поскольку по интенсивности жжения понял, что в таком случае неминуемо ослепну. Он важно кивнул в ответ на мои слова и бесстрастно продолжил свое дело. Когда он закончил, я был похож на актера японского театра. Меня сунули в автомобиль и повезли на пляж. Двое дюжих мужчин проволокли мое безжизненное тело по раскаленному медно-красному песку к полотняному креслу, где мне предстояло отойти в мир иной. Я наивно полагал, что пляж будет пуст и зевак из соображений такта уберут из поля моего зрения. Не тут-то было. На расстоянии двадцати футов от моего электрического стула - иначе мое место пребывания я бы не назвал - собралась толпа жадной до зрелища публики, с комфортом устроившейся под зонтиками с «инстамэтиками», «никонами», «лейками» и даже, как я в своем жалком состоянии успел заметить, с биноклями. А в самом центре этой орды восседал сам Висконти - радушный хозяин, пригласивший гостей из Милана, Рима и Флоренции. Им была оказана особая честь - стать свидетелями финальной сцены фильма «живьем». Все они пребывали в радостном оживлении и легкой истоме, попивали прохладительное. Надеюсь, мне простится блеснувшее в мозгу сравнение с ареной Колизея. Поскольку даже дышать я мог с большим трудом, не говоря уж о том, чтобы вымолвить хоть слово - иначе моя маска сразу бы растрескалась, я мог реагировать на внешние сигналы лишь слабым движением руки. И когда Альбино почтительным шепотом священника, отпускающего святые дары, справился, готов ли я, пальцем изобразил на своем колене цифру «5». Он правильно понял, что через пять минут я соберусь. Повисла звенящая тишина. Зрители, проникшись значимостью момента, замерли. Слышно было, как горячий ветер шелестит оборками зонтиков; где-то за мили от меня засмеялся ребенок. Внутри у меня стало горячо, сердце бешено стучало, кровь прилила к голове, и я поднял руку в знак готовности. Привычного висконтиевского «Azione!»3 я даже не услышал. В гримерной Мауро, стоя рядом с Висконти, радовался, хлопал себя по бокам, шлепал ладонями по стенам, утирая с блестевших глаз слезы счастья и торжества. Все сработало на славу. Волосы поседели, лицо растрескалось, губная помада клубничного цвета слиняла, слезы потекли сквозь трещинки - словом, все получилось великолепно. Битый час мы орудовали шпателем, водой и мылом, кольдкремом, бензином, ножницами, чтобы снять белый грим. Мое лицо, там, где удавалось его освободить, было багровым и горело, как от сильнейшего ожога. - Завтра будет полегче, вот увидишь. Уснешь, а утром все будет хорошо. - Голос Мауро звучал чрезвычайно бодро. - Что это за штука? Он нашел один из выжатых тюбиков, разбросанных передо мной на столике. - Это я придумал, Мауро! Английское производство, совершенно безопасно, сделано в Англии. Для тебя особенно безопасно, стало быть. Я взял смятый тюбик. Мауро предусмотрительно соскреб этикетку. Остался лишь обрывок, на котором значилось: «...но огнеопасно. Не допускать попадания в глаза и на кожу». Это был пятновыводитель. Впервые я увидел «Смерть в Венеции» в три часа дня в холодном просмотровом зале студии «Чинечитта». Висконти сидел, окруженный домочадцами, вернее, теми из них, кого он счел достойными стать свидетелями того, как предстанет перед зрителями его детище, да некоторыми избранными из числа съемочной группы. Было там и умеренное количество принцесс, одна или две графини, три-четыре актера, не занятых в фильме, но удостоенных чести присутствовать на церемонии в знак признания их заслуг. Висконти всегда держал при себе мобильный эскадрон людей свиты, этих прилипал, вечно плавающих под боком крупной рыбы. В случае необходимости он мог с уверенностью положиться на них в распространении самой благоприятной молвы о фильме повсюду - от Милана, Рима и Неаполя до Парижа и Лондона. Они никогда не подводили его. А если бы осмелились, то обрекли бы себя на гражданскую и профессиональную гибель. Сегодня я не могу описать всех чувств, овладевших мною, когда на экране растаял последний кадр. Одно помню, я молчал как рыба. Фильм был заряжен такой завораживающей силой, что собственное участие в нем казалось фактом ничтожным. Слава Богу, я не вызвал сам у себя раздражения. Сказать мне было нечего. Висконти, не выпускавший из тонких сильных пальцев сигарету, выслушал панегирик свиты с достоинством Папы римского, слегка покачивая головой, и лишь потом, вяло махнув рукой в мою сторону, приветствовал меня отеческим хлопком по ладони. - А, Богард. Va bene?4 Нам надо кое-что переозвучить. - Слушаюсь. Лукино. Я повернулся, чтобы уйти, но он внезапно окликнул меня по имени. Я остановился на пороге. - Веne?5, - тихо спросил он. - Веnе, - ответил я. - Molto bene6. Его серые чистые глаза смотрели прямо. Очень спокойно. Он допустил меня к своему успеху. Итак, фильм был наконец закончен. Висконти, которому все это время удавалось держать отснятый материал при себе, был вынужден ехать в «ужасный Лос-Анджелес» и показать Денежным Мешкам, как он их называл, то, что они частично субсидировали. В просмотровом зале был, как кто-то потом выразился, аншлаг, и, когда зажегся свет, никто не шелохнулся. Висконти решил, что это успех, что они никак не опомнятся после эмоционального накала финальных кадров. Ничуть не бывало. Их молчание объяснялось недоумением, граничащим с ужасом. Почувствовав наконец в атмосфере всеобщего молчания неловкость, поднялся нервный человек в очках. - Ну что ж, по-моему, музыка замечательная. Главная тема великолепна. Кто вам писал партитуру, синьор Висконти? Благодарный за то, что хоть кто-то проявил - пусть косвенный - интерес к его фильму, Висконти ответил, что музыка принадлежит Густаву Малеру. - Просто здорово! - откликнулся нервный. - Надо взять его на заметку. Гораздо позже, уже добравшись до Рима, Висконти всласть посмеялся. Но тогда было не до смеха. Меньше всего ему, Висконти. В конце концов вынесли вердикт, что фильм «неамериканский» и тема очень скользкая. Он ни за что не принесет дохода, и ясно как день, что публика в Канзас-Сити ни черта в нем не раскумекает. Прозвучало также предположение, высказанное с определенной тактичностью, хотя и не чрезмерной, что, если бы даже зашла речь о его прокате в Америке, фильм бы все равно запретили, щадя общественную мораль. Однажды вечером мне позвонил из Рима сопродюсер фильма Боб Эдвардс. - Тут какой-то Джон Джулиус Норвич, лорд или что-то в этом роде, - он основал фонд спасения Венеции «Жемчужная Венеция» - хочет устроить благотворительную премьеру нашего фильма в Лондоне, королева согласилась присутствовать, сказала, что обоих детей с собой приведет. Каково? Пожалуй, именно его превосходительство лорд Норвич и спас «Смерть в Венеции». Висконти передал в Лос-Анджелес: «Если, по-вашему, этот фильм оскорбляет нравственность, и вы его по этой причине не пустите на экран, считайте, что обвинили в безнравственности английскую королеву». Мы выкарабкались. ...Прием после королевской премьеры готовился в резиденции Берлингтон-хаус. К тому времени, как я подоспел туда со своей небольшой компанией, зал заполнился до отказа. Замученный метрдотель выразил нам свое сожаление, и мы стали спускаться по лестнице, раздумывая, где бы перекусить. Облокотись о перила, один из Денежных Мешков разговаривал с кем-то из своих. Оба были явно озабочены. - Премьера в Риме в четверг, будете? - крикнул он мне. Я ответил, что не могу сказать наверняка. На самом деле загвоздка была в том, что меня на нее не пригласили. Рим - вотчина Висконти. Никто не осмеливался предпринимать что-либо на этой территории на свой страх и риск. Он один полновластно царил там. - Ладно, завтра потолкуем, - отозвался Денежный Мешок с плохо скрываемым беспокойством. - Знаешь, - обратился он уже к своему соплеменнику, - во что я никак не могу не врубиться, так это в то, что английская королева приводит дочку на фильмец про старикашку, который пасет задницу какого-то пацана... На Каннском фестивале я попал в щекотливое положение. В числе множества конкурсных картин «Смерть в Венеции» официально представляла Италию, «Посредник» Джозефа Лоузи - Англию. Я оказался камнем преткновения для двух режиссеров, более всего повлиявших на мою карьеру в кинематографе. На этот раз они становились жесткими соперниками. До моих ушей донесся слух - они всегда гуляют в фестивальные дни по набережной Круазетт, - что я «определенно» должен получить приз за лучшую роль. Но слухи слухами, а всерьез их никто не воспринимает: я почему-то никогда не удостаивался призов, не из тех, видно, я актеров, которые их получают. Думать об этом доставляло удовольствие, хотя я пытался подавить в себе эту мысль. Лучше, чем мне, это удалось Висконти, который в пространном письме извещал меня, что в качестве официальной конкурсной ленты фильм должен демонстрироваться на итальянском языке. То есть в дублированном варианте. А по тогдашним правилам актер, роль которого дублировалась, не мог претендовать на награду. Возразить было нечего: дублированная роль - это и не роль вовсе. Итак, меня вышибли из претендентов, но это рассердило меня гораздо меньше, чем мысль о том, что вся моя кропотливая работа и «немецкий» колорит пропадут зря и текст пропоет какой-то итальянский тенор. День или два я просто кипел от гнева, который потихоньку перешел в смутное недовольство. Что толку скулить понапрасну. К тому же я увидел в этой ситуации и светлую сторону. Отстраненный от конкурса, я не испытывал вины ни перед Висконти, ни перед Лоузи. И мог с легким сердцем поздравить любого из них с заслуженной Золотой пальмовой ветвью. Денежные Мешки, однако, пришли в ярость и развернули между Римом и Лос-Анджелесом беспощадный бой, и желанный компромисс был достигнут. Фильм был показан в информационной программе для прессы в укороченном варианте на английском языке, а на вечернем гала-представлении на итальянском. Ход событий удовлетворил всех, в проигрыше остался только один человек - актер. Зал был набит битком. Люди сидели в проходах, на сцене, стояли позади кресел; журналисты исчислялись сотнями. Царила возбужденная атмосфера грядущего «события». Я понял, что если фильм не понравится, зрители не постесняются закидать экран камнями и пустыми бутылками; они отстояли по многу часов в очереди, чтобы занять здесь свое место. ...Мы прошли сквозь густую толпу, приветствовавшую нас, на пресс-конференцию. Висконти шел не спеша, наслаждаясь каждым мгновением, прижимая руку к груди, - благодетель, монарх, вышедший к своим подданным. Мы были триумфаторами, весь свет любил нас. За исключением одной важной персоны в жюри: этот человек нас не признавал и сообщал об этом в каждом барс или ресторане, которые он посещал в ходе своей многотрудной деятельности. Лоузи нервничал и переживал за судьбу своего фильма, который потерял шансы на успех из-за нашего с Висконти шумного триумфа. Я, как мог, пытался поднять его дух, напоминая о злопыхателе из жюри, который нес свою ненависть все дальше в народ. Меня стали донимать звонками, рассказывая о том, как принимают картину, и уговаривали прийти хотя бы на прием. Я отказывался, объясняя, что занят утешением конкурента. И конкурент победил. Накануне вручения призов известие об этом просочилось в публику, после чего Висконти спокойно упаковал багаж, заплатил по счету и уехал в аэропорт, где сидел на чемоданах в ожидании ближайшего рейса в Рим. Администрация фестиваля пришла в ужас. Висконти стаями осаждали официальные лица, умоляя его вернуться, обещая специальный приз, который он непременно должен получить лично. Он сидел невозмутимый, как монумент, и молча наблюдал за их стараниями. Потом нехотя согласился. При условии, что приз будет вручен ему в конце церемонии, после Золотой пальмовой ветви. Я не помню теперь, за что конкретно был вручен этот приз. В заполненном до отказа зале никому не было до этого дела, главное, что приз ему присудили, а когда был назван лучший конкурсный фильм и Лоузи в замешательстве прошагал по сцене, его ошикивали не тише, чем приветствовали. Зато, когда объявили о награждении Висконти специальным призом, весь зал стоя аплодировал ему. Он прошествовал на сцену, принял из рук Роми Шнайдер приз с величайшим достоинством, коротко поклонился ревущей толпе и ушел. Он ни на секунду не задержался на сцене, как это делали другие, робко прижимавшие к груди свитки и алые коробочки. За два года после съемок «Смерти в Венеции» на моем горизонте не появилось ничего, что могло бы соблазнить меня к возвращению на площадку. Меня удручало, что роль, сыгранная в последнем фильме, привела к тому, что моя фигура, по крайней мере в умах киношников, стала ассоциироваться с образом стареющего чудака, выступающего в обличье каких-то школьных учителей, тайно вожделеющих к ученикам - неважно, девочкам или мальчикам, или же священников, крадущихся готическими переходами подозрительных закрытых школ и выслушивающих в исповедальнях страстные признания. Вот чем увенчалась работа над Томасом Манном в партнерстве с Лукино Висконти, которую мы делали так любовно и трепетно. Все свелось к тому, что я окончательно утвердился в амплуа дегенерата. Тяжелый, немилосердный удар... [...]
1 - Очень хорошо; 2 - Еще раз; 3 - Мотор!; 4 - Все в порядке?; 5 - Хорошо?; 6 - Очень хорошо (итал.). (В материале использованы фрагменты из книг Дирка Богарда «Вверх и вниз»/«Snakes And Ladders», 1978 и «Человек правил»/«Аn Orderly Man», 1983. Перевод Н. Цыркун. «Искусство Кино», 1991)
«Смерть в Венеции» - это реквием, прощание с жизнью и красотой. Небольшая повесть Томаса Манна проникнута этим чувством. "Это лицо напоминало собой греческую скульптуру лучших времен и, при чистейшем совершенстве формы было так неповторимо и своеобразно обаятельно, что Ашенбах вдруг понял: нигде, ни в природе, ни в пластическом искусстве, не встречалось ему что-либо более счастливо сотворенное..." (Томас Манн, «Смерть в Венеции»). Изменив профессию героя писателя Ашенбаха (английский актер Богард - «Ночной портье») и сделав его композитором, великий Висконти насытил картину драматически-скорбной музыкой Густава Малера и создал произведение адекватное творению Манна. Оператор Паскуалино Де Сантис великолепно вписал в грустные пейзажи Венеции вдохновенное лицо интеллектуала Ашенбаха и ангельски-порочное - мальчика Тадзио (Андресен) - последнего болезненного увлечения умирающего композитора. (Иванов М.)
Экзистенциальная ретро-драма. То ли с возрастом, то ли от осознания грустной мысли, что такое кино уже больше не снимают, «Смерть в Венеции» становится все дороже и ближе. И к этому фильму испытываешь самые нежные и застенчивые чувства, словно во времена первой юношеской влюбленности, когда объект твоих несмелых воздыханий, возможно, и не заслуживает подобной чести, хотя в случае с лентой Лукино Висконти следовало бы говорить об идеальном, прекрасном, просто восхитительном предмете влечений. Психологически тонкая, деликатная по настроению и чувству, философская по мысли, с блеском отшлифованная по литературной форме новелла немецкого писателя Томаса Манна казалась теоретически непереводимой на язык другого искусства. Но вот появилась картина, которую не мог не снять выдающийся итальянский режиссер Лукино Висконти. Правда, другой свой любимый проект «В поисках утраченного времени» ему осуществить так и не удалось. Импрессионистический рассказ Манна, в который вплетаются драматические ноты, вроде бы несопоставим с многотомной эпопеей-интроспекцией француза Марселя Пруста. Но оба произведения относятся к числу этапных, ключевых для литературы ХХ века и не теряются в общей сокровищнице мировой культуры. Их авторы уловили глубинные - мифологические, архетипные - мотивы человеческого существования, находящегося в постоянном поиске «утраченного времени», несбыточного идеала, некой сверхИстины, первоосновы жизни, изначальной красоты. Рай и ад, добро и зло, жизнь и смерть, здоровье и болезнь - вечные антиномии искусства. Оно само является амбивалентным, двойственным сочетанием реальности и вымысла, результатом творческого акта художника, анормального и аномального по сравнению с обычными людьми. Новелла Томаса Манна возникла благодаря именно такому дуалистичному позыву: писатель вдохновлялся реальной биографией знаменитого австрийского композитора Густава Малера и идеей немецкого философа Фридриха Ницше о наличии определенной связи между болезнью и творчеством. А Висконти оказалась лично и художнически близка история больного интеллектуала Ашенбаха, который перед своей скорой смертью встречает на пляже Лидо в Венеции изумительно красивого мальчика Тадзио, поляка по происхождению. Постановщик как бы возвращает главного героя к его прототипу, превращает писателя в композитора, а в звуковой партитуре дает фрагменты из музыки Малера (третья и пятая симфонии), сентиментально-мучительной, прекрасно-трагической, жизнеутверждающе-скорбной. И этот фильм Лукино Висконти, который продолжил после «Гибели богов» плодотворное сотрудничество с оператором Паскуалино Де Сантисом, который удивительно точно чувствует манеру разных режиссеров и своеобразие их мира, запечатлеваемого на пленке, невероятно изыскан, прекрасен, возвышен, патетичен. Но гимн звучит все-таки по исчезнувшей красоте, оставшейся в далеком прошлом, по уже недостижимой эпохе и некоем идеальном краю, как у Гете. Тоска по неосуществимой мечте, а не только смертельная болезнь гложет душу и сердце художника. Любовь к ангельскому созданию, словно спустившемуся с небесных сфер, оборачивается непереносимой мукой, которая лишь приближает наступление смерти. Тадзио - это ангел, явившийся за душой, провозвестник холеры, пришедшей в Венецию, образ неминуемой смерти, посетившей земную юдоль. «Смерть в Венеции» получила юбилейную премию по случаю 25-й годовщины фестиваля в Канне, где главный приз достался английской картине «Посредник» Джозефа Лоузи, который придерживался во многом схожих пристрастий в искусстве. Некоторые критики посчитали этот факт оскорбительным для Лукино Висконти, иронизируя над тем, что был незаслуженно награжден всего лишь посредник, а не тот, кому предназначено быть принимающим послания. Хотя в отдельных откликах на несомненный шедевр итальянского маэстро кино можно встретить даже вот такой анекдотический образчик глупости как раз одного из англосаксов: «первый претендент на звание самого переоцененного фильма всех времен» (Time Out, 1985). Поистине, ценители прекрасного окажутся после подобных слов в полном ауте! Оценка: 10 из 10. (Сергей Кудрявцев)
Жизнь и смерть в Венеции. Когда-то давно и не помню уж где, я читал, что "Смерть в Венеции" - самый занудный фильм Лукино Висконти, да к тому же отмеченный печатью неудачи, - дескать, маэстро рассчитывал на "Золотую Пальмовую ветвь", но в итоге был вынужден довольствоваться утешительным юбилейным призом. Кроме того, фильм снят по новелле Томаса Манна, говорят, одного из самых занудных писателей ХХ столетия. В этот вечер у меня было занудное, меланхолическое, неудачливое настроение, и я депрессивно подумал, что если не посмотреть "Смерть в Венеции" сейчас, то подходящий момент, может быть, не настанет никогда. Действие фильма происходит приблизительно в 1911 году (ибо новелла Манна написана в 1912-м). Знаменитый немецкий композитор Густав фон Ашенбах, человек средних лет, едет на венецианский курорт Лидо отдохнуть от работы на неограниченный срок. Он - "сердечник", или, как это еще говорят, "инфарктник". В сюжете фильма немало флешбэков, из которых становится ясно, что, с точки зрения, как многих слушателей, так и близких людей Ашенбаха, жены (которая, впрочем, не озвучивает свои впечатления) и друга, его музыка - холодна, написана чуть ли не по математическим расчетам; не через чувства, но через разум Ашенбах пытается достичь божественной гармонии. Складывается впечатление, что композитор бежит от чувств, чурается их, словно переизбыток чувств разорвет его слабое сердце. На курорте, заселенном аристократами со всех уголков Европы, он встречает "ангела во плоти" - польского подростка Тадзио, который вяло отдыхает в окружении семейства, сплошь состоящего из женщин разных возрастов. И вот Ашенбах начинает тайком наблюдать за ним: в большой гостиной зале, спрятавшись за газетой; в ресторане, аккуратно отодвинув в сторону вазу с цветами; на пляже, зарывшись носом в письма и поедая клубнику. Вскоре переизбыток чувств к Тадзио становится так силен, что бедный композитор попытается бежать из Венеции, но оказия с багажом на вокзале вынудит его вернуться в Лидо. На том же вокзале произойдет странный случай: внезапно сползет по стенке человек и судорожно завздыхает. А вскоре улицы Венеции наполнит удушающая вонь: по всем булыжным мостовым разольется какая-то дезинфицирующая дрянь. Попытки Ашенбаха выяснить, что происходит, не приведут к успеху. Стандартным ответом всех местных жителей, от администратора курорта до уличного музыканта, будет: "Вам не о чем беспокоиться". Висконти снял по-настоящему модернистский фильм (в котором, впрочем, исходя из сюжета, угадывается критика модернизма). Ясный, прозрачный сюжет и... виртуозная, более того, какая-то магическая постановка. Пестрая, но приятная глазу цветовая гамма: дамы, задрапированные в шелк, с лицами, спрятанными под оперившимися широкополыми шляпами, безмолвные дети, искусственно резвящиеся подростки, холодный серый песок, купола пляжных зонтиков, розовое небо, грязные улицы, занесенные светлым порошком, пожилые мешковатые тела, между которых угрями скользят тела юных обитателей курорта. Камера ведет себя с изысканно-медлительной фривольностью. Сперва она прослеживает взгляд Ашенбаха, который устремлен, естественно, в сторону Тадзио, а потом, оставив композитора наедине с его чувствами, начинает свободно блуждать, создавая вокруг Ашенбаха целый мир, абсолютно живой и в то же время абсолютно равнодушный к переживаниям главного героя. Вожделение Ашенбаха обманчиво для зрителя. В образе Тадзио Ашенбах видит не объект страсти, а никогда им не уловленную красоту и, отчасти, ускользающего себя. Когда он узнает об эпидемии холеры в Венеции, в первую очередь он ассоциирует Тадзио со своим погибшим от какой-то болезни ребенком. Не знаю насчет Манна, его я не читал вообще, но Пруст здесь точно угадывается. Уникальная особенность фильма заключается в том, что фильм не поглощает тебя полностью, а, напротив, пробуждает твои собственные воспоминания, задействует ассоциативную память, заставляет тебя оживлять свой собственный, уже пережитый и давно утраченный мир. Замечу, что в данном случае пробуждаются воспоминания не о каких-то похожих на "Смерть в Венеции" кинолентах, а исключительно о литературных текстах, - то есть, о произведениях, "включающих" твое собственное воображение и память. И тут спектр исключительно широк: я вспомнил многое, от "Белеет парус одинокий" Валентина Катаева до "Выигрышей" Хулио Кортасара. Например, мальчики, одетые в матроски, напомнили мне Петю из "Паруса", который, искупавшись в море, неприятно натягивает на мокрое, покрытое пупырышками тело колючую матроску, - я моментально вспомнил свою пионерскую рубашку, которую надел единственный раз в жизни - во время приема в пионеры, - а больше ее никогда не носил, поскольку уж слишком она была колючей. Ну, а тема эпидемии и скрытничества, разумеется, напоминают основную сюжетную коллизию дебютного романа Кортасара. И так далее. На мой взгляд, "Смерть в Венеции" - совершенный фильм. Я поставил ему пять баллов, что у нас на «Экранке» означает "шедевр". Впрочем, должно пройти какое-то время, прежде чем картина отстоится в памяти, зацементируется, и тогда уже будет видно, уйдет она под грунт или останется горделиво возвышаться в назидание прочим. Оценка: 5/5. (Владимир Гордеев, «Экранка»)
Встреча с абсолютной красотой смерти подобна. Познав неземной идеал, не к чему больше стремиться и нечего ждать. Это и наказание, и награда. Дар богов и небесная кара. Это гибель, но в самом прекрасном городе мира. Это «Смерть в Венеции». Сирокко, холера, страх быть непонятым и тоска по прекрасному. Стареющий композитор Густав фон Ашенбах приезжает в Венецию - восстановить силы, сменить обстановку, обрести покой и найти вдохновение. Это не седой старик, но возраст - он в душе, во взгляде. Среди отдыхающих его внимание привлек мальчик Тадзио. Он не мог поверить своим глазам - истинная красота существует, и она здесь рядом. Густав вспоминает то, что послужило причиной его отъезда - публика не восприняла его новую музыку, назвав ее мертворожденной, а ведь он всего-то хотел создать нечто совершенное. И вот, разуверившись, что идеал можно обрести на земле, он находит его здесь, в Венеции, и невольно начинает следовать за ним по пятам и в то же время мучиться от внезапно нахлынувших чувств. Попытка покинуть Венецию не увенчалась успехом, сама судьба хочет, чтобы он остался в этом городе. Навечно. А на Венецию тем временем наступает беда. Да и не только на Венецию, вся Европа скоро будет в опасности. На дворе 1911. Но пока виной беспокойства холера - чтобы не терять туристов о ней предпочитают молчать, втихую дезинфицируют город и тайно вывозят деревянные ящики. Но Ашенбаху повезло - он узнает правду. И он хочет спасти красоту - он сообщает матери Тадзио страшную весть. Но самому ему спастись не удастся - Венеция не отпустит. Фильм снят по одноименной новелле Томаса Манна. Главного героя Манн писал с немецкого композитора Густава Малера, но в своем произведении он делает из него писателя. Лукино Висконти наоборот возвращает герою произведения Густаву фон Ашенбаху профессию его прототипа. В фильме звучит потрясающая музыка Малера, благодаря которой еще лучше удается прочувствовать драматизм многих сцен. Сам фильм получился необыкновенно трогательным, душевным, чистым и личным. Нельзя сказать, что Густав Малер=Густав фон Ашенбах=Лукино Висконти, однако то, что режиссер фильма пропустил его через себя и что для него он очень много значит - сложно не заметить. Апрель, 1970 - первые дни съемок. Белокурый швед Бьорн Андресен словно специально рожденный для роли польского юноши Тадзио. Ему ничего такого не надо было играть. Достаточно того, что он был - все остальное сделают режиссер и оператор. Светлое лицо, открытый взгляд, чистота и нереальная неземная красота, как на картинах мастеров прошлых веков. Такого просто не могло быть сейчас. Другое дело Дирк Богард. Эта роль далась ему не просто, но конечный итог - лучшая награда. Вместо обсуждения роли и режиссерских указаний Богард получил новеллу Томаса Манна и предложение прочитать ее столько раз, сколько он сможет. Пока не поймет своего героя. Слушать Малера и читать Манна - вот и все режиссерские напутствия. Что он и сделал. Необходимо было понять героя, его чувства, чтобы играть взглядом, жестом, тонко, едва уловимо. Все эмоции - на лице героя, в его глазах, уголках губ. Мимика в ленте очень важна, возможно, поэтому в конце фильма режиссер надевает на героя маску смерти - сложнейший грим, при нанесении которого его лицо и правда стало походить на маску, а после снятия - нестерпимо болело и покраснело, как от ожога. Но совершенство без боли невозможно. Те, кто помнит финальную сцену (одну из красивейших в кино), те наверняка понимают, что все было не зря. По словам самого Богарда после этого фильма ему все время предлагали роли всевозможных нечестивых священников и учителей, мечтающих о своих учениках. И все из-за неправильной трактовки его образа. 1 марта 1971 года в Лондоне состоялась премьера, которую почтила своим присутствием сама королева. Забавно, что незадолго до этого Лос-Анджелесские боссы отказались брать ленту Висконти в прокат, назвав ее безнравственной и «неамериканской». Впрочем, с самого начала продюсеры не были довольны тем, как шла работа над лентой и боялись того, что же в итоге должно было получиться. Основные претензии они предъявляли к сценарию и выбору актера на главную роль. Режиссер решил не обращать на них никакого внимания, в результате чего бюджет ленты был сокращен вдвое. А хотели продюсеры изменить две вещи: сделать так, чтобы вместо тринадцатилетнего юноши Тадзио в фильме была девочка, и чтобы вместо Дирка Богарда снимался более популярный актер. Ни с тем, ни с другим пунктом Висконти не мог согласиться. Он выбрал Дирка Богарда на роль Густава фон Ашенбаха еще во время съемок «Гибели богов» (весьма успешно прошедшей в американском прокате). Замена девочки на мальчика с целью избежать невольно напрашивающегося неправильного истолкования ситуации также была неприемлема. В ленте намеренно подчеркивается, что те чувства, которые вызывают в Ашенбахе юный Тадзио никак не связаны с похотью и лишены какой бы то ни было физиологии. Чистая красота - ее нельзя трогать. Видимо, американцам-материалистам понять это было трудновато. Тут же был вынесен на поверхность известный факт нетрадиционной ориентации самого режиссера и пошли слухи... Чтобы спасти фильм, Лукино Висконти был вынужден отказаться от гонорара, а другие участники ленты намеренно уменьшают свое вознаграждение, чтобы только появились деньги на фильм. На каннском фестивале зрители очень тепло приняли ленту, но кому-то из членов жюри она все-таки не пришлась по душе. В итоге главный приз достался английскому фильму Джозефа Лоузи «Посредник», что очень расстроило Висконти. Чтобы как-то сгладить ситуацию, а, может, понимая, что объективно «Смерть в Венеции» была сильнее, Висконти дают специальный приз. Премьера картины состоялась 40 лет назад. Теперь - это классика и признанный шедевр. Могло ли быть иначе? (Алина Ермолаева, «25-й кадр»)
«Смерть в Венеции» может служить примером одной из лучших в истории киноискусства экранизаций прозы - предельно бережного и скрупулезного прочтения одноименной новеллы Томаса Манна, впервые опубликованной в 1912-м году. Дело не только в доскональном, не упускающем, кажется, ни одной значимой детали перенесении на кинопленку событий литературного первоисточника. Изменение ряда существенных моментов и введение дополнительных эпизодов на удивление не воспринимаются самонадеянной попыткой кинематографистов «расширить» или «подправить» автора оригинала, представляясь, быть может, единственно возможным средством выразить многосложный комплекс умолчаний - всеобъемлюще передать подтекст, наличествовавший в небольшом, емком по мысли произведении. В первую очередь это касается профессии и, соответственно, призвания главного героя. Существует достаточно обоснованная гипотеза, что прототипом фон Ашенбаха, у Манна - писателя, выступил немецкий поэт Август фон Платен, посвятивший Венеции несколько стихотворений и тоже скончавшийся от холеры (правда, на Сицилии). Однако Лукино Висконти и Никола Бадалукко имели полное право придерживаться другой распространенной версии, проведя прямые параллели с судьбой тезки фон Ашенбаха, Густава Малера1, в том числе - использовав отрывки из его музыкальных сочинений (третьей и пятой симфоний). Более того, краткие, но доставляющие пожилому композитору массу мучительных переживаний воспоминания, настолько плавно и незаметно перетекающие в фантазии, что постепенно отличить одно от другого становится невозможно, звучат отголосками другого, так и не реализованного режиссером замысла - адаптации романа «Доктор Фаустус» (1947). Возможно, это ослабило излюбленный литератором (поднимавшийся и прежде, например, в «Тристане», 1903 и «Тонио Крегере», 1903) мотив взаимодействия-сосуществования с окружающим миром мастера словесности, отказывающегося от насильно возлагаемой на него свыше обязанности «пророка», как у Александра Пушкина, но позволило усилить ницшеанское начало. Завораживающе поведать о рождении трагедии из духа музыки. Подобного рода детали, которые могли бы оказаться малосущественными, сугубо «техническими», в данном случае принципиальны, прямо взывая к памяти зрителя, наверняка знакомого с одной из самых известных работ нобелевского лауреата. Взвинченные диалоги Густава с Альфредом, своим другом, но и самым честным, последовательным, безжалостным критиком, и другие картины прошлого несут «кулешовскую» функцию, если вспомнить о знаменитых эстетических экспериментах нашего классика с кадрами, запечатлевшими Ивана Мозжухина. Никто и не обращает внимания на респектабельного гостя, воспринимающегося совершенно одиноким на заполоненном людьми пляже, среди других постояльцев отеля на обеде и бродящего, точно привидение, по улочкам Лидо. И, какой бы пронзительной (напрашивается эпитет «гениальная»!) ни казалась игра Дирка Богарда, терзания фон Ашенбаха остались бы непонятными и уж точно - не поднялись бы выше уровня досужих пересудов о болезненности, о склонности к порочности и извращенности художественной натуры. Речь же идет о драме человека, не случайно укорявшегося Альфредом в неукоснительном (неукоснительном до жестких самоограничений, до навязчивой боязни прямого контакта с чем бы то ни было) следовании строгим нравственным принципам, который отдает себе отчет в противоестественности и безысходности ситуации - и... не в состоянии ничего поделать. Что давит на него сильнее, заставляя раз за разом пытаться заново пережить и переоценить прошлое? Безвременная кончина дочери, подведшая черту под, наверное, самым счастливым и плодотворным периодом жизни? Растущее неприятие авангардистских исканий творца публикой, открыто проявившей агрессивность на очередном концерте? Физический недуг (перенесенный сердечный приступ), усугубляемый затяжной депрессией?.. На протяжении сеанса растет подозрение, что все это, подавлявшееся усилием воли, не просто оставило неизгладимый отпечаток - приняло форму внезапно нахлынувшей страсти, больше напоминающей манию в узкоспециальном, психиатрическом значении термина. «А музыка... в ней есть что-то недосказанное, сомнительное, безответственное, индифферентное. [...] Сама по себе музыка - опасна», - говорил Сеттембрини Гансу Касторпу (в «Волшебной горе», 1924). И буквально в тот самый момент, когда композитор, воспользовавшись удачным предлогом (отправка багажа по недоразумению в другой город), окончательно сдается, отказывается от борьбы с самим собой, - следует жуткое предзнаменование свыше: на вокзале замертво падает человек. Острый поворот сюжета, поначалу (приблизительно до середины повествования) сосредоточенного исключительно на внутреннем мире конкретного человека, позволяет во всю силу заблистать таланту маэстро, который всегда - в каких-то постановках в большей степени, в каких-то в меньшей - выходил на важные обобщения, помогал нам постичь сущность целых эпох. Морально-психологическая деградация фон Ашенбаха оказывается неотъемлемой от самой атмосферы, пронизанной духом декаданса, увядания, заката, - и его неуклонное приближение к гибели проходит, так сказать, в унисон с пугающе стремительным распространением неизлечимой заразы. Это даже не пир во время чумы, а совсем дикая ситуация сознательного игнорирования эпидемии азиатской холеры: состоятельные и благородные курортники со всего света преспокойно предаются праздности в отеле и на прилегающем пляже (настоящая модель цивилизации!), не возмущаясь подлым заговором молчания властей и местных жителей, опасающихся грозящего убытками оттока туристов. Звучащие обрывки бессодержательных разговоров на разных языках и исполнение проникновенной колыбельной «Спи, усни, крестьянский сын»2, приобретающей черты печального реквиема, вызывают неожиданные ассоциации, провоцируют на глубокие размышления о судьбе отживающего старого мира и о том, что придет на смену. Картина была включена (наряду с «Людвигом», 1972) в так называемую немецкую трилогию режиссера, несмотря на то что формально - никак не связана с «Гибелью богов» (1969). Но тем знаменательнее невольно возникающие параллели - вроде присутствия Богарда (пусть и в совсем иной по характеру роли) или того обстоятельства, что эсэсовец, искусно воздействовавший на умы фон Эссенбеков, тоже носил «говорящую» - означающую 'поток пепла' - фамилию Ашенбах. Установление Третьего рейха было бы объективно невозможно без Первой мировой войны, незаметно приблизившейся и со скоростью пандемии унесшей миллионы жизней, предпосылки же - логично искать в предшествующей эпохе, на которую как раз пришлось нахождение на троне Людвига II. Висконти и его соратники, выдающийся оператор Паскуалино де Сантис, художник-постановщик Фердинандо Скарфьотти, художник по костюмам Пьеро Този (номинация на «Оскар»), демонстрируют исключительное мастерство, переходя от утонченного, пусть и проникнутого ощущением упадничества, импрессионизма к грозному символизму. Кинематографисты нашли отличный зрительный эквивалент развязке новеллы, когда Густаву «чудилось, что бледный и стройный психагог издалека шлет ему улыбку, кивает ему, сняв руку с бедра, указует ею вдаль и уносится в роковое необозримое пространство». Объект вожделения служителя муз, видевшийся ангелом красоты, воплощенным идеалом прекрасного, на поверку оказался вестником смерти. Авторская оценка: 10/10.
1 - И тем самым, к слову, спровоцировав ехидные выпады Кена Рассела в очередной «безумной биографии» под названием «Малер» (1974). 2 - Песню на музыку Модеста Мусоргского и слова Александра Островского из вокального цикла «Песни и пляски смерти» исполнила Маша Предит. (Евгений Нефедов)
Картина «Смерть в Венеции» поставлена выдающимся итальянским режиссером Лукино Висконти по одноименной новелле Томаса Манна. Отступления незначительны, если не считать превращения главного героя Густава фон Ашенбаха из писателя в композитора, в котором угадываются некоторые черты Густава Малера. Однако такое превращение оказалось весьма оправданным, поскольку исходный авторский замысел был во многом навеян размышлениями о творчестве и жизни австрийского композитора. Мелодия адажио из Пятой симфонии Малера стала главной музыкальной темой фильма. Некоторые эпизоды Висконти извлек из других произведений Манна (главным образом из его романа «Доктор Фаустус»). Время действия строго соблюдено: это 1911 год. Европа, доживающая свои последние безмятежные годы, но уже предчувствующая надвигающуюся катастрофу. Немецкий композитор Густав фон Ашенбах приезжает в Венецию. Он чувствует, что дни его сочтены. Фон Ашенбах обращает внимание на польскую семью: мать с двумя дочерьми и сыном Тадзио, весь облик которого предстает Ашенбаху как совершенное воплощение красоты. Эта встреча приводит композитора в смятение. Ашенбах был убежден, что совершенная красота не имеет ничего общего с жизнью, что она может быть лишь чисто духовным творением. Совершенство черт Тадзио символизирует классическую красоту, которая уже не подвластна современному художнику. Как зачарованный, Ашенбах следит за Тадзио везде, где бы ни оказывался мальчик. Венецию настигает холерное поветрие. Польское семейство готовится к отъезду. На пляже Ашенбах в последний раз видит мальчика, который, прощаясь с морем, все дальше уходит по волнам лагуны и, наконец, останавливается и поднимает руку. Ашенбах подымается из своего кресла и падает. Он мертв. «Этот фильм трагичный в своем итоге, томительный по характеру изображаемых событий, не лишенный подчас безжалостной иронии, поистине обладает несказанной привлекательностью, - пишет киновед Леонид Козлов. - Высшее художественное мастерство проявилось во всем построении фильма, в найденной режиссером гармонии сюжета с динамической живописью воссоздаваемой среды, человеческих обликов с пейзажем, во всем пространственном и временном ритме, связующем музыку Малера с движением пластики, света и цвета. В том, как выражено на экране легендарное и загадочное очарование Венеции. И, конечно, в драматической силе и тонкости центрального образа, ставшего вершиной актерского творчества Дирка Богарда». Висконти снимал Богарда в «Гибели богов». В первый же день актер сделал шесть дублей, и все разные. Никакого диалога, просто состояние души. И Висконти понял, что нашел своего актера. После съемок «Гибели богов» он предложил Богарду роль Ашенбаха: «Давай делать вместе фильм, ты и я». «Но не слишком ли я молод для Ашенбаха?» - засомневался Богард. «Почему? - пожал плечами Висконти. - Там про возраст не сказано, просто за пятьдесят. А ты знаешь, что это про Малера, про Густава Малера? Томас Манн говорил, что встретил его в поезде из Венеции. Такой несчастный, забившийся в угол купе, в гриме, весь в слезах... потому что влюбился в красоту. Он познал совершенную красоту в Венеции и вот должен уехать, чтобы умереть... Больше ничего ему в жизни не остается. Вот! Будем снимать прямо по книге, как написано у Манна, никакого сценария. Готовиться начинай прямо сейчас. Слушай музыку Малера, все, что он написал. Слушай не переставая. Нам надо проникнуть в это одиночество, в эту бесприютность; будешь слушать музыку - все поймешь. И еще надо читать, читать и читать книгу. Потом я ничего говорить не буду. Сам поймешь, потому что Манн и Малер тебе и так все скажут. Слушай, что они говорят, и будешь готов к работе со мной. Когда придет время». Съемки начнутся только через одиннадцать месяцев. Главная проблема, естественно, состояла в деньгах; ее частично удалось решить с помощью скромной субсидии от итальянского правительства. Но требовалось гораздо больше. Фильм «Гибель богов» (переименованная в англоязычных странах в «Проклятые») с огромным успехом прошел в Америке, и Висконти получил предложение от продюсеров, но на определенных условиях. Во-первых, Богарда следовало заменить более популярным английским актером, любимцем публики. На это Висконти ответил решительным отказом. Во-вторых, Тадзио должен был стать... девочкой. Продюсеры сказали, что такая версия более приемлема для американской публики, если же оставить все как у Томаса Манна, то смысл происходящего сведется лишь к следующему: «грязный старикашка преследует мальчика». Висконти был шокирован. Для него было очевидно, что у Манна речь идет о поисках чистоты и красоты. Неужели зритель этого не поймет? «Смерть в Венеции» читают уже давно, и даже в Америке. Споры режиссера с продюсерами продолжались почти неделю. Наконец с большой неохотой и опасениями американцы капитулировали по обоим пунктам, но бюджет был сокращен вдвое. Чтобы спасти фильм, Висконти решил отказаться от гонорара. Его примеру невозможно было не последовать... Сильвана Мангано, исполнительница роли матери Тадзио, отказалась от оплаты, взявшись работать только за покрытие своих гостиничных расходов, да и остальные участники съемочной группы, начиная с оператора Паскуалино Де Сантиса и кончая монтировщиком декораций, пошли на соответствующие сокращения своего вознаграждения. Вдохновленный поддержкой коллег, Висконти отправился по северным столицам в поисках Тадзио. Почти сразу он нашел его в Стокгольме. Стройный, бледный, светловолосый Бьорн Андресен, мальчик тринадцати лет, которого привела на пробы его честолюбивая бабушка, оказался идеальным кандидатом. Съемки начались в апреле 1970 года. Отношения Богарда с Висконти выглядели весьма необычно. Они разговаривали редко, о фильме вообще ни разу. Сидели всегда на некотором расстоянии друг от друга. «Никогда, ни при каких условиях мы не обсуждали, как мне надо играть Ашенбаха, вопросы интерпретации и мотивировки просто не затрагивались, - вспоминал Богард. - Как-то, еще перед нашим отъездом из Рима, я попросил Лукино уделить мне всего лишь полчаса, чтобы обсудить роль. Неохотно согласившись, он спросил, сколько раз я прочел книгу. Когда я ответил, что по крайней мере раз тридцать, он посоветовал перечитать ее еще тридцать раз, и на этом все закончилось. Единственное прямое указание я получил от него однажды утром: он попросил меня выпрямиться во весь рост в моем маленьком моторном катере в тот самый момент, когда мы выплывем из-под моста Риальто и я почувствую на лице солнечные лучи. Зачем именно это движение потребовалось от меня именно в тот момент, я не знал, пока не просмотрел законченную картину целиком вместе с Висконти, несколько месяцев спустя. Только тогда я понял, что он, словно хореограф, выстроил весь фильм кадр за кадром, подчиняя все мои движения музыке того человека, в котором, по его замыслу, должна была воплощаться душа Густава фон Ашенбаха, музыке Густава Малера». Висконти никогда не просматривал отснятый за день материал, полагаясь на Де Сантиса, оператора, который был для него гарантией, что все сделано именно так, как надо. Финальную сцену смерти Висконти готовил к самому концу работы в Венеции. И вот установилась идеальная погода. Море было спокойным, ветер гнал по пляжу горячий песок, жара стояла почти невыносимая. Богарду требовался специальный грим, который пойдет на смертную маску: она должна была медленно покрываться трещинками, символизируя увядание, старость, разрушение и окончательный распад - смерть. [...] (Из книги Игоря Мусского «100 великих зарубежных фильмов», 2006)
Висконти. Послесловие к мифу. 1971. На двадцать пятом Каннском фестивале - премьера «Смерти в Венеции» Лукино Висконти. Картина вызывает восторги одних и негодование других. Итальянские леваки не могут простить отцу неореализма ухода от социального протеста в мир эстетизма. Польский кинокритик (вероятно, оскорбившись за своего соотечественника Тадзио) называет фильм «педерастическим». И жюри к Висконти не слишком лояльно: он получает, по существу, утешительную, вне регламента, почетную премию в честь юбилея Каннского фестиваля. Через пару месяцев каким-то чудом «Смерть в Венеции» попадает на Московский фестиваль: зрители этого просмотра до сих пор вспоминают о нем как об одном из счастливейших событий своей жизни. В этом же году я, студент четвертого курса мехмата Львовского университета, окончательно понимаю, что ошибочно выбрал профессию. Не жалею о потерянных годах и усилиях, но больше не вижу себя математиком. Фильмы, которые мне удалось посмотреть во львовском прокате, вдохновляют на дерзкую мысль связать свое будущее с кинематографом. Среди этих фильмов несколько итальянских, в том числе «Затмение» Микеланджело Антониони и «Дорога» Федерико Феллини. Имя Висконти - третьего из великих режиссеров Италии - знакомо мне только по журнальным статьям и великолепной книге Веры Шитовой. Благодаря ей я полюбил Висконти прежде, чем посмотрел его фильмы. [...] 1976. [...] В советском прокате уже успел пройти «Семейный портрет в интерьере», вскоре появится «Невинный». Но, конечно, ни «Гибель богов», ни «Людвиг», ни «Смерть в Венеции» не могли быть показаны в кинотеатрах СССР - хотя бы в силу гомоэротических мотивов, недвусмысленно звучащих в этих фильмах. [...] 1978. [...] И вот тогда я впервые увидел «Смерть в Венеции»! И ее, и «Гибель богов» показывали на черно-белых (ворованных?) контратипах. Я запомнил и полюбил их такими, и когда позднее посмотрел «Гибель богов» в цвете, он мне показался лишним - верите или нет. Со «Смертью в Венеции» было иначе: цвет и музыка создавали ощущение полной художественной гармонии. Висконти поддерживал меня, в сущности, всю мою жизнь. Я восхищался его искусством и его человеческим образом, а в самые трудные минуты повторял вслед за ним девиз, позаимствованный у основателя Итальянской компартии Антонио Грамши: «Пессимизм интеллекта - оптимизм воли». Почти всегда эта стоическая формула оказывалась спасительной! Висконти был последним великим художником-историком и мифотворцем на закате классической европейской культуры. Как всякий закат, этот озарен вспышками трагической красоты, и «Смерть в Венеции» - одна из ее самых ярких вспышек. [...] Постскриптум. «Смерть в Венеции» - сердцевина «германской трилогии», которую открывает в творчестве Висконти «Гибель богов» и замыкает «Людвиг». Трилогия должна была перерасти в тетралогию и завершиться висконтиевской версией «Доктора Фаустуса», но не случилось. Как не случилось и прямой экранизации «Волшебной горы» и «Будденброков», но мотивы этой семейной саги хорошо просматриваются в «Гибели богов». С середины 1960-х Висконти отходит от активных социальных жестов в сторону манновской концепции мира. Он на время покидает итальянскую проблематику и обращается к острейшим сюжетам немецкой философии, истории и культуры. Это дало ему возможность проследить, как фашизм - и в муссолиниевской Италии, и в гитлеровском Рейхе - подпитывается художественной манифестацией зла, кризисом вырождающейся культуры. Второй причиной, по которой Висконти оказался близок Томас Манн, стал предпринятый немецким писателем глубокий анализ культурных мифологий. Его влияние Висконти ощущал еще в пору своей искренней приверженности неореализму, который на руинах Второй мировой войны вернул кинематографу дыхание подлинной жизни, обратил его к своей реалистической природе, - и это было огромное достижение. Но есть негласный закон: искусство не может долго питаться копированием, его тянет к обобщающим, укрупненным, гротескным образам. Так было в свое время в литературе конца XIX - начала ХХ века, когда она максимально приблизилась к жизненной эмпирии. Нечто подобное произошло и в живописи. Именно в это время, вопреки натурализму и передвижникам, возникли символизм и другие контртечения. Однако еще интереснее, что сама «натуральная школа» обнаружила в себе мощный мифологический потенциал. Об этом сказал в 1933 году не кто иной, как Томас Манн: «Возьмем хотя бы Золя и Вагнера, "Ругон-Маккаров" и "Кольцо нибелунга" - лет пятьдесят назад едва ли кому-нибудь пришло бы в голову поставить в один ряд имена этих творцов, эти произведения. И все же их место рядом друг с другом. Сродство духа, намерений, приемов ныне бросается нам в глаза. Их связывает не только честолюбивая приверженность огромным масштабам, не только творческое влечение ко всему грандиозному и массовому и не только - в отношении техники - эпические лейтмотивы; основное, что их роднит, - это натурализм, возвышающийся до символа и перерастающий в миф; ибо кто может отрицать в эпике Золя символизм и тяготение к мифичности, возносящее созданные им образы над действительностью?» (Томас Манн, «Страдания и величие Рихарда Вагнера»). Гениальный диагноз, применимый и к «сицилийской трилогии» Висконти, которая была начата фильмом «Земля дрожит» по роману Джованни Верги и продолжена «Рокко и его братьями», где влияние веризма (итальянской разновидности натурализма) тоже ощутимо. Но завершилась трилогия картиной «Леопард» - и это уже был историзм, накрепко переплавленный с мифологией и эстетикой. Это был шаг от Верги и Верди - к Манну и Вагнеру. А также к Прусту. «Леопард», замыкая «сицилийскую», открывает еще одну «тайную» трилогию в творчестве Висконти - исповедальную: я называю ее внутреннюю тему «эстетическим соучастием в историческом развитии». Эта трилогия завершается «Семейным портретом в интерьере», а центром ее опять же оказывается «Смерть в Венеции». Во всех этих фильмах появляется герой - альтер эго режиссера: в первом и третьем их играет Берт Ланкастер, во втором - Дирк Богард. Во всех трех фильмах присутствует мотив гибельной красоты, и сами они - гимны красоте, вопреки близкому дыханию смерти. В «Леопарде» - это красота интерьеров княжеского дворца в Доннафугате, красота Алена Делона и Клаудии Кардинале, кружащихся под музыку вальса Верди, красота безжалостной победительной юности, сбрасывающей с корабля истории старческий аристократизм. В «Семейном портрете в интерьере» - это красота молодого безрассудства и авантюризма, одушевляющего мертвый мир палаццо, где укрылся в броне воспоминаний престарелый Профессор; это нервная красота Хельмута Бергера, самого близкого человека последних лет Висконти. «Смерть в Венеции» - красота в наиболее сгущенном виде: полная гармония изображения и сюжета, музыки и пластики, света и цвета, пейзажа и ритма, скрупулезно воссозданной атмосферы Венеции на закате бель-эпок. Это болезненная красота европейского декаданса, захваченная взглядом режиссера в тот момент, когда она еще не подернулась тлением: вскоре она совсем погибнет в пламени мировых войн. Это вписанная в великолепную рамку, одухотворенная и чувственная красота Тадзио, воплощенная под руководством Висконти шведским подростком Бьорном Андресеном. В новелле Манна маститый писатель Ашенбах, всю свою жизнь посвятивший служению разуму, неукоснительно выполнявший долг художника и гражданина, неожиданно сталкивается со стихией запретного, темного и в то же время невыразимо прекрасного - и в этот миг «таинства» уходит из жизни. Искушение посещает Ашенбаха (заметьте, так же звали инфернального эсэсовца в «Гибели богов») в образе юноши Тадзио, наделенного почти мифической, античной красотой: он вызывает у писателя сократовско-платоновские ассоциации. Но тот же Тадзио оказывается вестником смерти и разложения в охваченной эпидемией холеры Венеции. Для Манна важна предыстория героя, важно, что свое писательское призвание он видел подобием государственного долга и служения немецкому отечеству. Это была «духовная казарма», в которой царили упорядоченность и дисциплина. Манновский Ашенбах не приемлет новых веяний в жизни и искусстве, он поборник традиционной морали и классического гуманизма: вот почему встреча со стихией декаданса для него фатальна и губительна. Важно и то, что в новелле Ашенбах - писатель, человек, виртуозно владеющий словом, умеющий облечь в него мысль и чувство. У героя Висконти, в отличие от манновского, нет видимого прошлого: короткие ретроспекции лишь намекают на образ Ашенбаха-интеллектуала. В фильме он вообще не писатель, а композитор, по многим признакам ассоциирующийся с Густавом Малером: музыка его Пятой симфонии переполняет картину. И это отвечает глубинной сути замысла Манна, который сам его прокомментировал в «Предисловии к папке с иллюстрациями»: «На замысел моего рассказа немало повлияло пришедшее весной 1911 года известие о смерти Густава Малера, с которым мне довелось познакомиться раньше в Мюнхене; этот сжигаемый собственной энергией человек произвел на меня сильное впечатление. В момент его кончины я находился на острове Бриони и там следил за венскими газетами, в напыщенном тоне сообщавшими о его последних часах. Позже эти потрясения смешались с теми впечатлениями и идеями, из которых родилась новелла, и я не только дал моему погибшему оргиастической смертью герою имя великого музыканта, но и позаимствовал для описания его внешности маску Малера...» Висконти, при всем почтении к литературному первоисточнику, обращается с ним в высшей степени творчески. Он вводит в прошлое Ашенбаха мотивы из других произведений Манна, прежде всего из «Доктора Фаустуса». По фильму мы уже не можем определенно сказать, относится герой к «классикам» или «модернистам» (как не можем однозначно определить и самого Висконти), но это и не суть важно. Важно, как герой способен встретить испытания, которые несут время, призвание, судьба. И - старость. Манну, когда он писал «Смерть в Венеции», было тридцать шесть, Висконти в период работы над фильмом - шестьдесят четыре. И хотя Ашенбаху в обоих случаях около пятидесяти, эта цифра психологически переживается по-разному в новелле и в фильме. Острая, трагичная и при этом полная жестокой самоиронии трактовка роли Дирком Богардом не оставляет сомнений: это кино несет на себе печать исповеди, свидетельствуя о глубоком переживании усугубляющегося чувства одиночества. До смерти Лукино Висконти остается пять лет. (Андрей Плахов. Читать полностью - https://snob.ru/entry/150877/)
В поисках утраченной красоты. Такие люди, как он, счастливцы, ведь они дважды поцелованы Богом. Первый поцелуй Господа - это дар Гения, и второй - дар Судьбы. «Такие люди, как он, богачи: они владеют вечностью и еще одним днем - для любви». Это неразрывно связано - Гений и его судьба. Ведь ни у одного Гения не было и не может быть банальной судьбы. Судьба каждого Гения уникальна. Жизнь Лукино Висконти окутана мифами, расшита легендами, увита странными совпадениями и звенит мистическими моментами. Миланский Герцог Джузеппе Висконти ди Модроне - отец маленького Лукино - обожал искусство и вообще все прекрасное. Театр Ла Скала долгие годы принимал дары влиятельного мецената. Двери Храма искусств всегда были открыты семье герцога. Все семеро детей герцога обучались игре на инструментах, пробовали сами сочинять музыку. К 13 годам Лукино прекрасно музицировал на виолончели, выступая не только перед домашней публикой, но и со сцены Миланской консерватории. Родители сделали для ребенка главное - привили вкус к прекрасному, тягу к созиданию и заложили умение наслаждаться истинной красотой. А дальше придет взросление... И Судьба впервые ударит Лукино, проверяя его на прочность. И будет первая любовь, и страдание (первая и, возможно, единственная любимая девушка выйдет замуж за его брата), и первые самостоятельные решения - побег из колледжа и военная служба... Будут путешествия по миру и встречи с интересными людьми... А потом Судьба (а как же без нее!) с лицом Коко Шанель подарит юноше шанс - она познакомит его с творцом свободы Жаном Ренуаром, общение с которым станет для Лукино поворотным. Много лет спустя Висконти напишет: «Сильнее всего на меня повлияли беседы с Ренуаром, то, что я был к нему близок, следовал за ним и видел, как он работает». Приобретя ни с чем несравнимый опыт сотрудничества с большим талантом (Лукино был ассистентом режиссера на съемочной площадке), он возвращается в Италию с уже вполне сформировавшейся личностной и гражданской позицией. А Европа к тому моменту прогнулась под тяжкой поступью Рейха. Италия ощутила кроваво-ржавый вкус диктатуры Муссолини... Молодой режиссер вступает в ряды Сопротивления. Потому что он не может иначе. Потому что судьба Родины неотделима от судьбы настоящего художника. То, что произойдет с Лукино дальше, могло бы стать сценарной основой для суровой военной кинодрамы. А произойдет страшное. Дом режиссера в Риме служил укрытием для бежавших от гестапо антифашистов. По всей видимости, в результате анонимного доноса Лукино арестуют и подвергнут жестоким издевательствам. Его будут избивать, унижать морально и физически. В течение девяти дней он будет сидеть без еды в карцере, площадь которого даже не позволит прилечь и вытянуться во весь рост. А потом его поведут на расстрел. И он будет стоять перед строем гестаповцев, готовых разрядить в него ружья по команде офицера. И этот офицер до последнего момента будет требовать с него имена сообщников... Лукино никого не предаст. Он будет смотреть в глаза солдатам и не скажет ни слова, выдержав пытки, унижения, собственный страх... У этой истории поистине театральный поворот судьбы. Легенда гласит, что расстрел в тюрьме оказался инсценировкой, попыткой гестапо сломать волю человека. Другой вариант легенды предлагает более динамичный финал - Лукино находился в камере смертников. И избежать казни ему удалось благодаря тому, что партизаны штурмом взяли тюрьму и освободили своего соратника. Какой бы ни была истина на самом деле, но Судьба опять подарила Лукино шанс. Шанс жить и бороться... А бороться с диктатурой кинорежиссер мог единственным для себя способом - создавая ленты, подрывающие режим Муссолини. Таким образом, в 1942 году, продав фамильные картины и драгоценности (так гласит Легенда), Висконти на вырученные деньги снимает фильм «Одержимость». Лента производит эффект разорвавшейся бомбы. Никто не ожидал увидеть на больших экранах правду. Жесткую правду жизни. О том, как отреагировали нацисты на выход этой картины, лучше всего скажет тот факт, что фашисты изъяли, искромсали и практически уничтожили все копии фильма. Но Судьба опять благоволит Висконти, сохранив для потомков один единственный режиссерский экземпляр киноленты. И именно тогда впервые прозвучит слово, ставшее названием целой эпохи итальянского кинематографа - Неореализм. Главным действующим лицом фильмов Висконти всегда были даже не люди, с помещающимися в википедийную статью биографиями, а Красота, и это вовсе не плохо, как кому-то хотелось бы думать. Ведь прав, по сути, известный любитель парадоксов, говоривший, что видеть в красивом дурное не просто грех, а грех непривлекательный. Правда, сам режиссер, хотя и был по утверждению очевидцев, остроумен в жизни, скорее поклонник не ироничного английского эстетства, а его тяжеловесной немецкой версии с декадансом, Томасом Манном и Вагнером. Ирония спасает. От грусти, от тяжести, от пафоса, да от всего, но Висконти считал задачей творчества «заострение конфликтов» - тут для него все серьезно и почти свято. Красота, изысканность, перешедшая в изощренность и даже извращенность - особая религия, требующая своих специфических обрядов, своих гимнов, алтарей, храмов, возводимых в честь нее, и своих мучеников. Красота никому не принадлежит, не дается в руки. Безумным смехом смеется она настоящая тусклому отражению в зеркале - миру. Она сжирает, сжигает своих адептов живьем, дав им последний раз агонию наслаждения всполохами своего огня. Мы с нашим несовершенством ее Совершенству совсем не нужны. Но красота, скованная камнем, не только возвышенна, она болезненна, за каждым поворотом ее витиеватой истории и вершины, и бездны, весь неровный ландшафт истории человеческой, переведенной в форму искусства. Куда ни кинь взгляд, всюду следы ее ног. На этой, сказать по правде, не совсем пригодной для счастья планете все слишком тесно переплелось - взлеты, падения, красота, мерзость, чистое, порочное, божественное, дьявольское. Все самые счастливые моменты уже изначально отравлены конечностью, в самых красивых глазах порок или признаки болезни. Только в парадоксах, противоречиях, утверждениях странных и абсурдных, на первый поверхностный взгляд, может выражаться суть вещей. Наверное, есть какой-то предохранительный механизм, данный большинству людей, - умение не видеть мир в целости, лишь фрагментарно, по кусочкам, по обрезочкам, и это позволяет людям не сойти с ума. [...] «СМЕРТЬ В ВЕНЕЦИИ». Гибнущая, тонущая и оседающая в море каменная громада. Воплощенная в реальность сказка, торжество искусства над природой, дворцы на воде, стремящийся к небесам пышный Сан-Марко, буйство карнавалов, грязь в подворотнях. В самом этом городе с его острым, характерным запахом, ослепительной красотой изъеденной водой и временем архитектуры есть не видимый с первого взгляда изъян, трещина, что-то хтоническое, мрачное, болезненное, тлетворное, напоминающее о смерти и о бессмертии. Удвоение всех изображений в зеркальной глади каналов - орел или решка, жизнь и смерть, Эрос и Танатос... Не зря, Николас Роуг снимая там фильм с метким названием «А теперь не смотри», явно намекал и предупреждал, мол, не играйте с судьбой, не ищите призраков прошлого за поворотами узких извилистых улиц, не гадайте на будущее, не вглядывайтесь в эту мутную воду - затянет, засосет и не разглядеть там ничего, кроме смерти своей. Висконти тоже не мог не почувствовать ледяное даже в знойный итальянский полдень дыхание Венеции, но, как эстет, ведомый другими Богами, понимал все по-своему - он не может не смотреть, это тоже Рок, Судьба, но иного рода. «Кто увидел красоту воочию, тот уже отмечен знаком смерти» - слова Платена, хотел он сделать рекламным слоганом картины, хотя и так умел любые слова превращать в картины. Весь сюжет «Смерти в Венеции» укладывается в три лаконичных слова названия (один из которых предлог), все остальное - разрозненные воспоминания, обрывки мыслей и чувств, растрепанные рассуждения о красоте, смерти, искусстве, сплошные потоки сознания, пришедшего в точку, отменяющую здравый смысл и логические построения, туда, где невозможны любые разговоры и заканчиваются все слова. Это реквием по Малеру, с которого Томас Манн писал образ Ашенбаха, это реквием по несбывшимся чувствам самого писателя, реквием по красоте, реквием по утекающему сквозь пальцы миру и всему тому, что сложно поддается на язык изношенных человеческих слов, и тем более на язык кинематографической реальности. Висконти не стал вербализировать новеллу Манна. Он освободил выплеснутое на страницах мироощущение от власти букв, точек и многоточий, чтобы поместить его в другую такую же совершенную форму - Кино. Тягучее, плавное, медитативное, с неуловимой мелодией и ритмом, похожее на музыку Малера, которую невозможно отложить в голове и напеть, а можно только воспринимать. И главного героя режиссер возвращает к его первообразу, делая его композитором. Стареющий, больной, уставший, потерявший вдохновение, он растерянно бродит, как по Чистилищу, сосредоточению искусственной, созданной человеческими руками, красоты, - Венеции, чтобы в последний раз встретить Красоту Божественную. Наплывают воспоминания, спутанный поток флешбэков, словно человек пытается успеть разобраться во всем и сразу. Вот Ашенбах еще в Мюнхене чисто по-немецки рассуждает о том, что искусство не может быть неоднозначным, а творчество есть порождение разума, духовный акт, неподвластный чувствам. Но венецианская архитектура, математически высчитанная по строгим канонам и «Золотому сечению», каменные статуи, бессмертная музыка - вся искусственная красота бессильна перед естественной, нерукотворной красотой. Всюду он видит ее расставленные без видимого смысла метки, разбивающие все его рацио вдребезги, летят зеркальные осколки и больно режут. Смеются отражения, говоря, что настоящая Красота только и может быть, что неоднозначной, неразборчивой и случайной - это ее единственная привилегия, ее мощь, ее уязвимость. Все, от чего сжимается сердце, содержит в себе какой-то надлом, изъян или печать смертности. Все то, что нас лечит и одновременно убивает, все в этих чертовых/божественных противоречиях, разнонаправленных векторах, оксюморонах и причудливых капризах мироздания. Проститутка с лицом красивого ребенка, наигрывающая в пошлой обстановке мюнхенского борделя вечное «К Элизе». Жемчужина европейской архитектуры, обреченная уйти под воду. Самые сильные чувства - те, которые не случились. Мальчик-андрогин, сочетающий в себе обычного смертного и бессмертный Дух Красоты, мужские и женские черты. Бесполы, амбиваленты ведь только ангелы? Дуален и весь опрокидывающий все с ног на голову мир, посылающий белокурое, невинное создание предвестником смерти и холеры и дающий дар созидать, только самоуничтожающемуся, сжигающему в топке красоты самого себя. Слабая больная плоть во власти Духа, она не в силах устоять перед ним, она пойдет за ним к своей гибели, переступит через край, за которым начинается вечность. «Смертью в Венеции» Висконти постулирует смерть искусства и, одновременно, в качестве парадокса утверждает его бессмертие. С одной стороны, он говорит о существовании некой Высшей Гармонии, которая не дело рук человеческих, то есть утверждает победу над формой кино, с другой снимает Кино, утверждающее триумф формы над этим содержанием. Музыкой, как божественными слезами, выплакивается боль и любовь. Истинная поэзия пишется кровью, - вспомнить бы кто так сказал, ну да не важно. В чужом городе, где-то на пляже в Лидо, там, где небо смыкается с землей, а жизнь со смертью, Ашенбах превратит в свое последнее и самое совершенное произведение собственную смерть. Все искусственное, наносное уносится акварельными волнами прибоя. Жизнь плачет потоками туши и грима, чтобы проявить себя настоящую. А может, и мы все то же произведение искусства неизвестного художника, след его твердой руки? Недешифруемое послание на рисовой бумаге, написанное тонким каллиграфическим почерком? И нет ответа, абонент недоступен, остается только смотреть вслед силуэту, исчезающему в лучах света, у самой кромки воды. Перенапряжение мозга от взаимопротиворечащих фактов. Их избыток, скачок электричества. И выбивает пробки. И разум перегорает, выходит из строя, бессильный перед красотой. Скоро застывшая в предчувствии апокалипсиса Земля проснется, ощерится войной, но только не для тебя. Зайдет последнее Солнце, прекраснейший на этой планете город утонет в холере или мутной воде. Твой мир перевернется, зашатается и уйдет из-под ног. Не надо понимать. Бесполезно пытаться. Есть только печаль заходящего солнца и красота. Небо, на которое ты смотришь. Воздух, которым ты дышишь. И смерть. И тоска. Падай в желанную бездну с распростертыми объятьями. Покидай этот странный мир без горечи. Без неприязни. Славословь ангелов. И покидай... (Айна Курманова, Натали Сиамская. «25-й кадр»)
ВСПОМИНАЯ ВИСКОНТИ. Пожалуй, только сейчас, два с лишним года спустя, оглядываясь в прошлое - и далекое, и недавнее, - сознаешь, какую зияющую брешь в итальянском кино пробила смерть Лукино Висконти. Не меньшую потерю понесли и драматический театр, и оперное искусство Италии. Но не только кино, драма, опера лишились великого режиссера - не стало одного из виднейших мастеров всей итальянской, всей западной прогрессивной культуры. В памяти роятся отрывочные воспоминания о встречах с Висконти: во времена неореализма - в Риме, потом - в Москве на фестивалях. Выстраивается длинный ряд его фильмов и спектаклей. На столе - папки с вырезками из итальянских газет и журналов: интервью режиссера о его фильмах, театральных постановках, высказывания по поводу различных политических событий, ответы его - серьезные и шутливые - на всевозможные вопросы журналистов, статьи и рецензии критиков, информация о съемках пятнадцати его картин, воспоминания о Висконти его многочисленных друзей и поклонников, недругов и завистников. На полках - сценарии картин Висконти и всего одна о нем книжка на русском языке (на родине режиссера о нем так и не вышло сколько-нибудь полной монографии). И еще - много разных фотографий, не похожих одна на другую: Висконти в смокинге, получающий премии на международных фестивалях; Висконти в ковбойке, беседующий со зрителями-рабочими после просмотра его фильма; Висконти, руководящий актерами на съемочной площадке; Висконти, прикованный к инвалидному креслу, но не прерывающий до смертной минуты работу над последним своим фильмом... Потомок древнейшего рода властителей Милана: сама его фамилия пошла от титула «visconte» - «наместник графа», виконт. Сын и внук меценатов, покровителей миланской оперы «Ла Скала». Отпрыск и другой династии - фармацевтических королей Эрба (это - по материнской линии), представителей монополистического североитальянского капитала. Участник Сопротивления, прогрессивный общественный деятель, на протяжении всей своей жизни тесно связанный с Итальянской коммунистической партией. Лукино Великолепный (Великолепным называли в XV веке поэта и мецената герцога Лоренцо Медичи) - так звали его друзья; Красный герцог - так окрестили его противники в политике и искусстве. В искусстве Лукино Висконти был новатором, революционизировавшим итальянское кино, одним из основоположников неореализма (поэтика этого прогрессивного направления программно выражена в фильме «Земля дрожит», поставленном Висконти в 1948 году). Не меньшим был его вклад и в дело обновления итальянского драматического и оперного театра (но здесь мы будем говорить лишь о Висконти-кинорежиссере). И в то же время - это приверженец классического искусства, открытый традиционалист, чтящий за образец высокую трагедию Шекспира, французский и русский роман прошлого века и неторопливо строящий свои произведения - чаще всего сложные многофигурные композиции, семейные саги - по незыблемым канонам романной формы. Пресловутой проблемы «кризиса романа» для Висконти вообще никогда не существовало. Добрая половина его фильмов - экранизации романов и повестей: от Верги и Достоевского до Томаса Манна, Альбера Камю, Томази ди Лампедузы. Художник реалистического направления, в фильмах которого проявился исторически конкретный подход к эпохе, ее событиям и проблемам и впервые на экране поднялись во весь рост герои-труженики - сицилийские рыбаки, простая римская женщина, южноитальянские крестьяне, эмигрировавшие в поисках работы в Милан. И вместе с тем в других его картинах - в одних заметнее, в других слабее - несомненны элементы маньеристского изыска, эстетства, декаданса, любования рафинированной атмосферой жизни аристократии; среди его любимых героев - богачи, графы, а то и короли: и настоящие, коронованные, и - пушечные. Порой режиссера упрекали даже в «снобизме», «дендизме», что, в общем-то, несправедливо, но неверным было бы впадать и в другую крайность: утверждать, что творчество Висконти - всегда и во всем демократично. Оно едино, но вместе с тем неоднородно - и упускать это обстоятельство из поля зрения никак не следует. Исходная точка экранного творчества Висконти - писатель-верист Джованни Верга, итальянский Золя. Экранизировать новеллу Верги «Возлюбленная Граминьи» в свое время не позволили ему фашисты (в 60-х годах этот замысел осуществил Карло Лидзани, соратник Висконти); из романа Верги «Семья Малаволья» родились фильмы «Земля дрожит», «Рокко и его братья». А последняя работа режиссера, фильм «Невинный» - как ни странно - экранизация романа декадента Габриэле Д'Аннунцио, антипода Верги в итальянской культуре... Главное пристрастие Висконти в музыке - Джузеппе Верди, олицетворяющий в музыке, как Верга - в литературе, демократическую, патриотическую направленность передовой итальянской культуры. И в то же время - Вагнер, а потом Малер: гении народов, против которых итальянцы вели освободительную борьбу. Не будем забывать, что родина Висконти - Ломбардия, ее столица Милан на протяжении веков была средоточием двух сил, двух культур - романской и германской, которые, борясь между собой, порой сосуществовали и неожиданно переплетались... В области литературы и театра: рядом с Шекспиром - Достоевский и Чехов, рядом с Вергой - Томас Манн... Суровый, замкнутый человек с гордым чеканным профилем кондотьера. Безжалостный тиран, загоняющий артистов, как лошадей (породистые лошади когда-то были страстью Висконти), на репетициях и на съемочной площадке. И он же - терпеливый учитель и старший друг целой плеяды восхищавшихся им актеров, остававшихся близким и его друзьями до последней минуты: тут и Дирк Богард, и Берт Ланкастер, и Хельмут Бергер, и Ален Делон, и Сильвана Мангано, и Клаудия Кардинале. И он же - простой в обращении, внимательный, доброжелательный собеседник, любящий неторопливо потолковать и пошутить за стаканом сухого вина или чашечкой кофе. В своей рубашке с засученными рукавами, похожий на усталого римского мастерового, Ремесленник с большой буквы (в итальянском языке это слово «artigiano» имеет тот же корень, что и «художник» - «artista»), умелец, мастер, любящий свое дело, свое ремесло больше всего в жизни и поэтому считающий в нем важной каждую деталь, никогда не дававший поблажек ни себе ни другим (именно таким мне ярче всего запомнился Висконти в неспешном разговоре с ним и его постоянной сценаристкой Сузо Чекки Д'Амико за столиком во Внуковском аэропорту солнечным июльским утром 1963 года, когда мы, к счастью для меня, так долго ждали куда-то запропастившуюся машину). Таких контрастов, таких противоречий в Висконти-художнике, как отчасти и в Висконти-человеке, действительно было немало. Но каким образом они сливались в нем столь гармонично в единый и цельный талант, в целостную творческую личность? Ибо при всей многогранности, при всем разнообразии таланту Висконти - с присущими ему глубокими противоречиями - был чужд эклектизм. И надо попытаться поэтому найти доминанту, которая, подчиняя себе трудно сопоставимые и порой даже взаимоисключающие элементы, пестрое сочетание противоречивых импульсов, пристрастий, вкусов, склонностей, жизненного и художественного опыта, определяет истинное значение творчества Лукино Висконти. Почти одновременно с Висконти из итальянского кино ушли и другие талантливейшие режиссеры. В творчестве каждого из них была какая-то главная, именно его отличавшая черта. У Роберто Росселлини - трагический накал, непреодоленная риторичность, вечные и все чаще заходившие в тупик нравственные поиски, бесплодные попытки примирить современность с идеалами христианства. У Витторио Де Сика - огромная доброта к людям, мягкий, чуть иронический юмор и страстный протест против всякой несправедливости. Пьетро Джерми порой прятал свою патетичность, сентиментальность под горьким смехом, едким сарказмом, озорными шутками. Пьер Паоло Пазолини своими мрачными - до болезненности, до патологичности - фильмами, стихами, статьями бередил раны буржуазного общества, сам глубоко страдая от бессилия преодолеть трагический разлад между декларируемыми политическими позициями и объективным социальным смыслом своего искусства, своих картин. Что же прежде всего отличало творчество Лукино Висконти? Мне всегда казалось, что сила Висконти, в отличие от названных и многих других больших художников Запада, в твердости, внутреннем постоянстве, цельности (при всем многообразии сливавшихся в нем влияний и противоречий), в верности раз и навсегда сделанному выбору. Этот выбор относился и к искусству, и к жизни. Тридцать лет назад, когда появился фильм «Земля дрожит», один критик заметил, что в итальянское кино впервые вошел марксизм. Так это и было. И, хотя в отличие, например, от Пазолини, Висконти не называл себя громогласно марксистом, никогда не теоретизировал на эту тему в своих статьях и интервью, в лучших картинах его подход к объекту искусства, к материалу действительно почти всегда был историческим, социально конкретным, критическим, политически актуальным, даже - злободневным, как ни парадоксально это звучит, ибо, как мы знаем, многие фильмы Висконти повествуют не о сегодняшнем дне. Но и там, где тема его произведений далека, казалось бы, от проблем, волнующих людей в данный момент, чуткий зритель все-таки улавливал, чувствовал дыхание современности, ощущал ветер Истории, ее движение - если не событийное, то духовное, те процессы, что происходят в общественном сознании и морали современного общества. Тем более что режиссер чаще всего выбирал временем действия своих фильмов переломные, кризисные моменты истории, социальной и политической жизни. [...] С антифашистским мировоззрением Висконти связан другой характерный аспект его творчества. Потомок властителей Милана, на протяжении веков не раз подвергавшегося нашествиям австрийцев, участник итальянского Сопротивления, побывавший в лапах гестапо, - Висконти в своих фильмах то и дело возвращается к, по-видимому, не дававшей ему покоя «немецкой» теме, обращается к ней в самых разных планах - политическом, историческом, психологическом, пытается проникнуть в тайну злого, разрушительного начала, заглянуть в те духовные бездны, что прикрывались понятием «германского гения», понять трагедию немецкого народа, неоднократно приносившего горе другим народам, - через его историю, культуру, искусство. Так, в фильмах Висконти вслед за австрийским офицером из «Чувства» и устрашающими персонажами «Гибели богов» появляются не только Конрад из «Семейного портрета...» и молодой баварский король Людвиг, но и герой иного плана, прямо представляющий австро-германскую культуру, - композитор Густав Ашенбах из «СМЕРТИ В ВЕНЕЦИИ». Его связь с «немецкой темой» тоже очевидна, но, конечно же, неоднозначна. Однако все они - герои трагические, обреченные; их истории - это истории страданий, распада личности, смерти, упадка и гибели их среды и эпохи. (Что касается исторически портретных Рихарда Вагнера и знаменитого актера-трагика Иозефа Кайнца из «Людвига», то образы этих, не центральных, персонажей фильма Висконти трактует скорее в бытовом плане и неожиданно несколько иронически.) Образ немецкого композитора Густава Ашенбаха - героя фильма «Смерть в Венеции» (1971), произведения, передающего в совершенных зрительных образах сложную сумму философских, этических и эстетических проблем, очень емок. Висконти превращает писателя - героя новеллы Томаса Манна, положенной в основу фильма, в композитора, наделяя его некоторыми мыслями композитора Адриана Леверкюна из романа «Доктор Фаустус», а также - биографическим и отчасти портретным сходством с композитором Густавом Малером. Музыка Малера зазвучала в фильме, углубляя его философски, усиливая эмоционально. Малер действительно был в Венеции во время холеры и умер в 1911 году - в тот год, когда Манн писал свой рассказ. По многим свидетельствам, Томас Манн отчасти писал Ашенбаха с Малера, и если это так, то Висконти как бы восстановил его первоначальный замысел. Но известно также и то, что Томас Манн наделил своего героя и многими автобиографическими чертами, как он нередко это делал в своих произведениях. И, наконец, вполне возможно, что в герое фильма мы найдем кое-что общее и с самим режиссером - недаром, Висконти так давно стремился экранизировать эту новеллу. Итак, герой фильма - это манновские Ашенбах и Леверкюн, это Густав Малер, это в какой-то мере и сами Томас Манн и Лукино Висконти. Это все они - в той степени, в какой их черты укладываются в некий собирательный образ художника на пороге старости, болезненно страдающего от разлада между реальной жизнью и искусством, между разумом и чувствами, тщетно устремляющегося в погоню за недостижимым идеалом эстетического совершенства, абсолютной красоты. По сравнению с рассказом, в котором присутствовала мысль о «темных источниках классически ясного искусства», фильм обогащен другими идеями Томаса Манна, заимствованными из «Доктора Фаустуса». В коротких эпизодах - вспышках воспоминаний Ашенбаха, вплетенных Висконти в ткань своего неторопливого повествования, - показаны прошлые мучительные споры композитора с его циничным и резким другом, быть может, «вторым я» героя. Эти изнурительные, не дающие определенных ответов споры о сущности и назначении искусства, его многозначности, о самом загадочном из всех искусств - музыке, о функции художника, о его разуме и чувствах как инструментах познания истины, о нравственности и безнравственности формы, о демоническом и божественном в природе гения и о многом другом, - нередко отсылают зрителя к этому роману Томаса Манна, раскрывающего трагедию современного буржуазного искусства. Всю жизнь Ашенбах стремился к идеалу в искусстве, к строгому совершенству формы, понимаемому как нравственный императив, как высшее призвание. Он гнал от себя прочь смятение души и чувственные искушения - все, что считал нечистым и двусмысленным. Душа его опустошена пережитой трагедией - сперва потерей маленькой дочери, потом жены. В Венеции он переживает новый глубочайший кризис. Погоня художника за ускользающим идеалом, за прекрасным сливается у Ашенбаха с погоней за безвозвратно уходящей молодостью. Он мучительно осознает, что постоянная самодисциплина, подавление естественных человеческих чувств иссушили его искусство и его душу, что художник не может отгородиться от действительности окружающего мира. Выпавшего ему в Венеции испытания - встречи с неземной красоты отроком Тадзио, вновь поставившей его перед неразрешимыми дилеммами (искусство и реальность, красота и нравственность, жизнь и смерть), - больное сердце Ашенбаха не выдерживает... Фильм пронизан предчувствием гибели: это не только приближающаяся смерть самого Ашенбаха, не только смерть, собирающая обильную жатву в охваченной холерой Венеции, это не только дух обреченности, витающий над этим прекрасным, но все глубже погружающимся на дно лагуны древним городом. Это и дух обреченности старой, проникнутой безжизненным эстетизмом культуры, ощущение конца целой эпохи жизни буржуазного общества в Европе, над которой нависла близкая катастрофа первой мировой войны. Тема смерти и тления символически звучит в сценах, показывающих Венецию во власти холеры: в ослепительно белом костюме бредет Ашенбах по узким улочкам, усыпанным белой, как его костюм, хлорной известью, заклеенным белеющими на стенах воззваниями властей, а на площадях смрадным дымом чадят костры, на которых жгут одежду заболевших. (Так же чадили костры и так же витал дух смерти на улицах захваченной австрийцами Вероны, по которым брела героиня фильма «Чувство».) Фильм Висконти - рассказ об агонии человека и целой эпохи. Вслед за немецким писателем - одним из величайших представителей критического реализма в западной литературе XX века - итальянский режиссер выносит смертный приговор буржуазному художнику, представителю больной декадентской культуры. Испуганный и вместе с тем словно околдованный, Ашенбах не в силах побороть болезненное влечение к Тадзио; он идет навстречу своей гибели, путь к которой ему словно указал этот мальчик. Красота и смерть - первая и основная формула эстетизма. Это подчеркивал и сам Томас Манн, когда писал, что всякая форма эстетизма по своей природе является пессимистически-оргиастической, то есть тяготеющей к смерти. А художник - это посредник (хотя и иронический) между двумя мирами: смерти и жизни... У Томаса Манна эстетизм, декадентство находят посредством этого «иронического посредничества» не только моральное осуждение, но и глубокую историческую критику, осуждение именем современного гуманизма. Недаром авторское отстранение от материала, хотя Манн в чем-то и сочувствует Ашенбаху, в повести выражено весьма четко и ясно. Висконти тоже осуждает Ашенбаха, тоже пытается отстраниться от своего героя, быть к нему ироничным (заметим, что ирония у Висконти бывает весьма жестокой и горькой: чего стоят, например, хотя бы сцены в парикмахерской, а потом кадр - крупный план лица «омолодившегося» Ашенбаха со стекающими по нему ручейками краски для волос!). Но все дело - в мере иронии, авторской отстраненности - у Висконти она явно меньше чувствуется, чем у Томаса Манна. Позиция режиссера не столь определенна: «двусмысленность», «неоднозначность» искусства, его тайная природа внутренне мучают самого Висконти, заставляют его метаться в поисках даже тогда, когда разумом, казалось бы, он далек от этих проклятых вопросов или даже преодолел их. Муза Висконти, как бы ни была она трагична и горька, это не сатира, а элегия. И как бы точно ни доносил текст диалогов в фильме манновские рассуждения, поток впечатляющих зрительных образов сильнее передает душевные и духовные метания художника, тысячами нитей связанного со старой буржуазной культурой, - и Ашенбаха и самого Висконти. В фильме «Смерть в Венеции» очевиднее всего - и не только в стилистике и сюжете, а в самой сути произведения - проявилась приверженность Лукино Висконти эстетизму и вместе с тем искреннее стремление художника преодолеть его. Мы сказали, что образ Ашенбаха, сложный конгломерат его чувств и мыслей в какой-то степени были близки и самому режиссеру. Заметим, что подобного рода «автобиографичность» еще ощутимее в «Семейном портрете...», тогда как в фильмах Висконти более раннего периода наблюдалось, наоборот, отдаление художника от материала, как некогда справедливо подчеркивала в своей книге В. Шитова. Однако это верное для своего времени наблюдение было опровергнуто последующими работами режиссера. Не стоит, думаю, абсолютизировать этот аспект, далеко не все объясняющий в творчестве Висконти. Но все же отметим, что «Смерть в Венеции» обнаруживает некоторое сходство с фильмом Феллини «8 1/2». И тут, и там мы видим уставшего, зашедшего в тупик художника в момент короткой передышки, отдыха, когда перед ним, как надежда на спасение, как мираж, маячит недостижимый юный и прекрасный идеал красоты (вспомним Клаудию - девушку у источника из «8 1/2»). «Смерть в Венеции» - столь же искренняя и беспощадная к себе исповедь, как фильм Феллини. Но даже если этот фильм - в какой-то степени «8 1/2» Висконти, то и тогда по духу своему он все же остается глубоко висконтиевским: фантазия в нем строго подчинена реальности, связана с нею более прочно. Если продолжить сравнение этой картины Висконти с произведениями его старого антагониста Феллини, то столь же неожиданно можно найти известные аналогии и с «Сатириконом». В «Смерти в Венеции» царит та же апокалиптическая атмосфера светопреставления, всеобщего мора и гибели, что в «Сатириконе», - это приближение конца определенной исторической эпохи, целого мира, целой цивилизации, загнивающей, больной, немощной, причем гибель эта происходит в обстановке пышного богатства и утонченной роскоши. И здесь напрашивается - но уже чисто внешнее, формальное - сравнение еще с одним фильмом Феллини - «Джульетта и духи», выдержанном в том же, что и у Висконти, изощренном и чувственном стиле, который в начале этого века назывался в Италии «либерти», а в России - «модерн». Вспомним пышные гостиные и залы отеля на Лидо, в котором живет Ашенбах (кстати, эта гостиница - один из немногих сохранившихся поныне в Венеции старых отелей, и Висконти вел в нем съемки «на натуре»), огромные абажуры ламп и шляпы дам, повсюду расставленные вазы с цветами, причудливую мебель, вычурные туалеты и ныне кажущиеся столь забавными костюмы купальщиков на пляже... У обоих режиссеров - открытое любование «модерном»: у Феллини - фантастическим, у Висконти - исторически подлинным. Но как ни заманчив автобиографический подход, как ни увлекательны поиски возможных аналогий, следует вновь подчеркнуть: если даже порой и ощутимы неожиданные точки соприкосновения между отдельными фильмами этих двух больших художников, то не в главном. Для Феллини главное - выдумка, фантазия, поиски в неисчерпаемой кладовой своей памяти; для Висконти - объективная, «научная» реальность, в которую он если и привносит фантазию, то подчиняя ее этой реальности. Висконти и Феллини всегда стояли на противоположных полюсах итальянского киноискусства. Висконти, например, так же, как и вся левая итальянская кинокритика, в 1954 году в ходе широкой дискуссии о неореализме полностью отвергал феллиниевскую «Дорогу», считая - и в то время это было справедливо, - что фильм объективно наносит удар по прогрессивному направлению в итальянском кино, по его с таким трудом завоеванным идейно-художественным позициям. А затем не принимал и «Сладкую жизнь» - об этом он говорил нам в Москве в 1961 году. Его не восхищала нарисованная Феллини картина «страшного суда», это, как называл он, самобичевание буржуазии. Катастрофа вовсе не носит универсального характера, говорит он, - ее переживает буржуазная Италия, а отнюдь не весь мир. И личные отношения между Висконти и Феллини всегда были, мягко говоря, натянутыми. Феллини в своем «Риме» (1971) даже созорничал, показав персонаж в элегантно повязанном шарфике, представлявший злую карикатуру на Висконти. В 1963 году, когда они оба приехали в Москву на фестиваль, главной заботой оказалось каждый день кормить их в разных ресторанах, чтобы они, не дай бог, не встретились. Впрочем, это не помешало Висконти на закрытии фестиваля первым подойти к Феллини и самым учтивым образом поздравить его с получением главной премии за фильм «8 1/2», а Феллини - стоя рукоплескать Висконти в 1969 году на премьере «Гибели богов» в Риме. Итак, «Смерть в Венеции» - фильм во всех отношениях синтетический. В нем Висконти слил воедино мысли и текст Томаса Манна, музыку Густава Малера, собственное мироощущение и кинематографическое мастерство. С точки зрения формы фильм был безусловно новаторским, хотя подобные попытки предпринимались и раньше: режиссеру, более чем кому-либо до него, удалось синтезировать в единое кинопроизведение образы, идущие от литературы, музыки, живописи. Строгому общему ритму фильма подчинена музыка Малера, столь же гармонично входит в его образность «движущаяся живопись» цветных съемок Венеции, оживленного пляжа и пышных интерьеров. Но сам Висконти рассматривал «Смерть в Венеции» лишь как «предисловие», как подступ к огромной работе по экранизации цикла романов Марселя Пруста. Однако, так и не найдя продюсеров, он вновь вернулся к «немецкой теме»: отправившись в Баварию, Висконти снял там фильм «Людвиг» (1972). В нем режиссер снова уйдет в мир прошлого и вместе с тем вновь попытается осудить эстетизм, но опять не выполнит своей задачи до конца. Герой фильма - странный, беспокойный, нервный человек - последний баварский король Людвиг II, взошедший на престол восемнадцатилетним юношей в 1864 году. Молодой король был влюблен в искусство и ненавидел войну. Его большим другом был знаменитый композитор Рихард Вагнер, которому он всячески покровительствовал. Король строил прекрасные дворцы, замки, театры, отказываясь от участия в войнах и политических интригах. Это была беззащитная жертва своего времени, фигура слабая, но привлекательная. Людвиг не вынес бесконечной вражды со своими придворными, не в силах был противостоять натиску Бисмарка: всеми преданный, опустившийся, полубезумный, он погиб при загадочных обстоятельствах... На первый взгляд, это был всего лишь «роскошный» костюмный фильм из придворной жизни - нечто вроде бесчисленных «Майерлингов», история безнадежной любви короля-мецената, короля-чудака к своей очаровательной кузине Елизавете Австрийской. Но сквозь внешние фабульные перипетии проступала глубоко трагическая история распада одаренной человеческой личности, принесенной в жертву «высшим государственным интересам», зарождавшемуся прусскому милитаризму; эссе на тему о власти и государстве, а одновременно - и трагедия эстетизма, оборачивающегося социальным и политическим бессилием... Отрешенный от жизни, король-меценат не мог противостоять напору сильных соседей, прежде всего Пруссии, и его поражение было предопределено. Если «Гибель богов» - история падения семьи «пушечных королей», то «Людвиг» - история падения монархии. Так же, как и «Гибель богов» и «Смерть в Венеции», «Людвиг» проникнут острым ощущением конца определенной эпохи, и это дыхание истории придало фильму глубину и масштабность. Однако некоторые критики - и не без оснований - упрекали тогда Висконти в том, что последние годы он тяготеет к спорным решениям в области киноязыка, что его фильмы, во всяком случае - их изобразительное решение, носят отпечаток декадентства. Висконти возражал им, утверждая, что дело идет лишь о «вопросах стиля», а не существа произведения, разъяснял реалистический смысл своих картин. Но нет сомнения в том, что, показывая обреченность, распад - моральный и физический - своего героя, режиссер настолько сконцентрировал внимание на болезненных комплексах Людвига, одержимого своеобразной манией величия и не знавшего удержу в своих страстях и капризах, что в фильме одерживают верх патологические мотивы, а социально-исторический анализ явлений отступает на второй план. Трагическая фигура короля-эстета, которая волновала сердца романтически настроенных юношей и барышень много лет спустя после его гибели даже у нас в России, во второй половине фильма просто страшна, а порой вызывает отвращение. В целом фильм производил впечатление мрачное, гнетущее. А это отчетливо свидетельствовало о кризисе, переживаемом самим художником. [...] А в финале «Смерти в Венеции» звучит - по-русски! - проникновенная колыбельная Мусоргского, словно оплакивающая смерть героя и как бы возвещающая приближение новой эпохи, которая начнется там, откуда в Италию пришла эта песня. Так в фильме Висконти прозвучал русский мотив, прозвучал в прямом смысле слова, и рядом с Верди, Вагнером, Малером в его творчестве занял место Мусоргский. [...] Висконти был выше конъюнктурной суеты, шумных дискуссий, модных веяний, не раз за долгие годы менявшихся в культурной жизни Италии. Постижение мира у него было в своей основе реалистическое, и в творчестве он исходил (во всяком случае, стремился' исходить) из непреложных, осознанных законов развития исторического процесса, показывая обреченность старого мира. Этого, одного из постоянных мотивов творчества Висконти - неизбежности гибели старого буржуазного порядка, его культуры, его мифов - подчас не замечали даже некоторые друзья и почитатели, оглушенные и сбитые с толку то оперной пышностью, то мелодраматичностью, то шекспировским накалом страстей, то изысками и утонченностью в той или иной его работе. Рассматривать фильмы Висконти сейчас, когда его нет, порознь, выискивать в них отдельные достоинства и недостатки - занятие вряд ли продуктивное. Конечно, у каждого из нас есть свои предпочтения. Мне, например, повторяю, кажется самым гармоничным по слиянию четкого политического анализа и чисто висконтиевских внутренних мотивов - «Семейный портрет в интерьере», к тому же являющийся предельно современным и доступным для самого широкого зрителя. Но кто возьмется утверждать, какой из фильмов Висконти глубже, какой совершеннее: «Земля дрожит», «Рокко», «Смерть в Венеции», «Гибель богов», «Леопард», «Семейный портрет...»? Мировому кино досталось огромное, многообразное, неравноценное наследие - творчество Висконти, при всей противоречивости отдельных его произведений проникнутое единым мировоззрением. И это свое мировоззрение, свою позицию антифашиста, патриота, гуманиста, борца за социальное обновление своей страны и ее культуры Лукино Висконти сохранил до конца. (Георгий Богемский. «Искусство Кино», 1978)
"Фирменное висконтиевское занудство, да еще и возведенное в степень отвратительных гомосексуальных связей..." Висконти никогда не казался мне занудным режиссером. Эталон занудства, по-моему, наше отечественное авторское кино, в первую очередь подражатели Тарковскому. Ашенбах вовсе не похож на вульгарного педика. Я вижу в нем в первую очередь эстета, влюбленного в Красоту, некий идеал которой представился ему в юном Тадзио. Едва ли Ашенбах стал бы проявлять какие-либо домогательства, его чувство носило платонический характер. Новеллу я тоже читал. Висконти слегка изменил сюжет, сделав писателя Ашенбаха композитором, и использовал для музыкального оформления музыку Густава Малера. Операторская работа в фильме тоже отличная, хотя я, к сожалению, видел только обычный вариант широкоэкранного фильма. "На первый (примитивный) взгляд, фильм об однополой любви - одинокого стареющего мужчины к красивому мальчику". Некоторые на Западе именно так и восприняли. Читал в каком-то зарубежном романе или мемуарах, к сожалению, не помню, где именно. Там главный герой узнает о том, что на просмотре фильма "Смерть в Венеции" присутствовала английская королева, и недоумевает: "Неужели королеве понравился фильм о старикашке, пасущем задницу какого-то пацана?" :):) Но любовь Ашенбаха к Тадзио вовсе не так примитивна. В новелле Ашенбах любуется им, как неким юным божеством из античной мифологии. И размышляет о красоте, которая так недолговечна. Тадзио представляется ему хрупким и болезненным мальчиком, который, вероятно, долго не проживет. Отпрыск аристократического рода, отмеченного печатью вырождения... Ашенбах даже не пытается познакомиться с ним поближе, очевидно, боясь при более близком знакомстве разочароваться в своем идеале. В принципе на месте Тадзио могла оказаться и девочка столь же неземной красоты. Но Ашенбах и на Гумберта, одержимого порнографическими грезами о Лолите, тоже не похож. Ему достаточно молчаливого любования издали. И в новелле, и в фильме есть моменты, заставляющие предполагать, что Тадзио, возможно, как-то знаком с этой стороной жизни. Ашенбах видит, как он на пляже целуется с мальчиком из числа своих приятелей. А потом этот же мальчик его за что-то побил. Может, приревновал к кому-то? Прямого ответа на это нет. В эти дни я заново пересмотрел фильм. Нашел широкоэкранную версию, поскольку раньше видел только обычный вариант, где детали обстановки меньше видны. На широком экране больше заметен облик эпохи начала XX века, которая безвозвратно закончилась с началом Первой мировой войны, перепахавшей всю старую Европу. Послевоенная Европа с ее социальными потрясениями уже очень мало напоминала тот "потерянный рай". Ашенбах ее уже не увидел, потому что умер в Венеции. (Борис Нежданов, Санкт-Петербург)
Спонтанная безупречность. "Кто увидел красоту воочию, тот уже отмечен знаком смерти" - Август фон Платен. В густой темно-зеленой чаще неподалеку от Виллы Ла Коломбая лежит огромный камень. Под ним обрел покой отец итальянского неореализма, фамильный аристократ, убежденный марксист и - в последние годы - пресыщенный эстет. Эпитафия «Он обожал Шекспира, Чехова и Верди» по каким-то причинам так и не была написана. Лукино Висконти ушел из жизни тихо и спокойно, без толп обливающихся слезами родственников и почитателей. Ему претила любая фальшь, он считал ее неприемлемой для тонко мыслящего ценителя, не представлявшего себе дня без классических симфоний. По печальному совпадению великий режиссер встретил свой конец как персонаж последнего по-настоящему значительного фильма. Только Висконти сидел не в шезлонге, а в инвалидном кресле, и вместо солнечного мальчика была сиделка. Тяжелая болезнь поставила крест на нереализованных планах, а маэстро считал, что не сказал последнего слова. Возможно это так, но имени дона Лукино принадлежат безусловные шедевры, воспринимающиеся не фильмами, а произведениями кинематографического искусства. «Смерть в Венеции» - прощальный манифест декадента, переставшего ощущать осязаемую связь с окружающей жизнью. Экранизация одноименной повести Томаса Манна - визуализированная греза большого художника, фильм-рассуждение, лента-метафора, картина-исповедь, двухчасовая элегия увядающей красоты. Фундаментальное творение, срединную часть «германской трилогии» Висконти посвятил своим тягостным переживаниям. Прокоммунистические постановки, вехи встающего на ноги неореализма остались в прошлом, поздний период итальянского классика отмечен попытками «оценивать мир», как он это называл. Апокалиптические сцены нравственного загнивания, наполнившие саркастично-трагедийным смыслом «Гибель богов», уступили место спокойной, плавной, мелодичной картине болезненного самоопределения. Путешествующий по Венеции в поисках умиротворения Густав фон Ашенбах - чеховский персонаж с расшатанными нервами, родственный прототипу Малеру профессией. Неприятие аудитории, заклейменная «мертворожденной» музыка изгнали дирижера с привычного места, лишили уверенности, заразили душу сомнениями. Манн посвятил свою новеллу писателю, но Висконти сделал его композитором, не утратив ни капли интеллектуального искательства немецкого прозаика. Век стареющего музыканта, в котором не признать расчетливого слугу и запутавшегося преподавателя из картин Джозефа Лоузи, близок к окончанию. Дирк Богард усталый, растерянный и неразговорчивый, его лоск напускной, словно неаккуратно наложенный грим для опостылевшего амплуа. Он болен физически и морально, ему некуда возвращаться, когда за спиной лишь недовольный свист да эмоциональные замечания коллеги-композитора. Густав если и был близок к пониманию гениальности, то благополучно позабыл об этом. Как и о красоте, которую совершенно не чувствовал. Бессмысленно-возвышенные и неуловимо-эфемерные представления о природе вдохновения обрели под венецианским небом земные черты польского юноши Тадзио. Коря себя за выплеск незнакомых чувств, Густав с робкой надеждой хватается за образы из воспоминаний, но находит в них лишь горечь, разочарование, искусственность. На плотское влечение у Манна не было даже намека, и Висконти без колебаний следовал за любимым писателем. При некоторой схожести переживаемых ощущений Ашенбах - антипод набоковского Гумберта. Пронзительная кинолента посвящена осмыслению красоты, ее созидающих свойств и способности влиять на восприимчивую душу. Разносимая Сирокко холера - инфекция только по медицинской терминологии. В действительности она - закономерный рубеж неординарного человека, на склоне лет сумевшего раскрыть самого себя. Основополагающая концепция «Смерти в Венеции», как и Манна в целом - болезнь и зло, как питательная среда для гения - выпестована Висконти с итальянской эмоциональностью. О «дрессировке актеров» и при жизни режиссера ходило множество баек, а для декадентской картины он добился абсолютного слияния героя с книжным оригиналом и настоящим композитором Малером. Перед Густавом расцветает самыми живописными проявлениями красота, его окружают роскошно одетые женщины, изысканные шелка интерьеров, богатая архитектура Венеции с неповторимыми каналами и элегантными гондольерами. Кризис восприятия вызван искусственностью всего этого великолепия, а подлинная безупречность создается природой, и только ею. Она спонтанна, своенравна, капризна и случайна как размах очередного прилива. Ангелоподобный Тадзио, которого наедине с собой Ашенбах слезно и надрывно просит не улыбаться, слишком хорош для этого мира. Неудачливый дирижер с отзывчивой душой скульптора понимает это как никто другой, и поэтому он умирает. Не от страшной заразы, которую алчные отцы города до последнего пытаются скрыть, а от долгожданного осознания, что природа озарения перестала быть непостижимой тайной. Висконти долго шел за своим идеалом, следовал ему, даже если приходилось менять направление. Дебютная «Одержимость» и «Смерть в Венеции» как будто сняты разными людьми - настолько сильна авторская эволюция. От нехитрых чаяний босоногой челяди дон Лукино пришел к сложно интерпретируемым помыслам отчаявшегося гения, встретившего смерть помпезно выглядящим стариком. Немощь лишила Висконти свободы, заставила вести бессмысленную борьбу, и отошел он в мир иной с тяжелым сердцем. Но память о крупном режиссере в его картинах. Для самой венецианской необходимо особое настроение, меланхоличное состояние души, готовность впитывать и внимательно осмысливать. В мире не так много мест, придающих поэтичность смерти. Контрастная Венеция, романтичная и порочная - подарила последний приют заграничному гостю, и солнце свело с его лица остатки искусственности. Истинной красоте белила и румяна ни к чему - ангел отыщет своего искателя и озарит дорогу в вечность. (Nightmare163)
Корабль плывет... везя на своем борту десятки людей, желающих забыться о проблемах, найти покой и отдых в самом романтичном городе мира. Santa Venezia - свято-грешный город, в который приезжает и Густав фон Ашенбах - композитор и психагог. 1911 год, последние годы культуры и власти эстетики, после - хаос, мор, войны. Пароход «Эсмеральда», везший Ашенбаха стал своеобразным символом для героя - ведь так звали его жену - Эсмеральда. Быть может это некий таинственный знак. Венеция - Элизиум для Густава. Город, словно произведение знаменитых зеркальщиков поглощает музыканта. Пышность и манерность Гранд Отеля, феерические костюмы и множество различных людей встречают Ашенбаха во всей красе. Но это не тот Гранд Отель, который присутствует в фильме Ф. Феллини, в этом отеле герою суждено остаться навсегда. Густав болен, тяжело болен. Он приехал подлечить здоровье. В первую очередь - душевное здоровье. В виде ретроспективных эпизодов мы окунаемся в воспоминания композитора. Невероятно прекрасная и тонкая музыка Малера погружает нас в мир самого музыканта. Музыка в фильме выступает как отдельный персонаж, отдельный герой. Герой независимый, тонкий и не вмешивающийся в течение жизни, а только созерцая и передавая нам атмосферу. (Висконти, кстати, изменил персонаж Ашенбаха, превратив из писателя в композитора.) Основой размышлений героя являются его воспоминания о дискуссии со своим другом о том, что же значит любовь. Что это такое, и может ли художник любить. Словно ритуал, с благоговением и любовью, выставляет фотографии умерших жены и дочери. Медленный ритм картины, иногда плавно-тянучий, медленное движение камеры - это ритм размышлений героя, его внутренняя борьба с собой, с жизнью, с воспоминаниями. Взор Ашенбаха скользит по ресторану, как будто бы ищет чего-то, кого-то... И тут его взор останавливается на внеземно-прекрасном юноше, Тадзио, сидящем за столом вместе с семьей. (Роль Тадзио прекрасно исполнил молодой шведский актер Бьорн Андресен). И гений Висконти, гений актера Д. Богарда (Ашенбах), и гений оператора Паскуалино Де Сантиса воплощают на экране бессмертные строки Томаса Манна: «Это лицо напоминало собой греческую скульптуру лучших времен и, при чистейшем совершенстве формы было так неповторимо и своеобразно обаятельно, что Ашенбах вдруг понял: нигде, ни в природе, ни в пластическом искусстве, не встречалось ему что-либо более счастливо сотворенное...» И Ашенбах, ловя себя на мысли, что куда бы он ни посмотрел, как бы не отвлекался - везде объектом внимания оказывается этот мальчик. Для Ашенбаха открывается новый мир, его мир, который доселе был ослаблен, почти умерщвлен. Мир любви. Ведь для героя самое важное: любить, значит жить. И он живет. Живет для этого ангельски-порочного Тадзио, сводящего его с ума. С уходом парня мир вокруг тускнеет, остаются только бессмысленные звуки, да воспоминания. Что есть красота? Какова она? Где она рождается? И ответ приходит. Красота рождается независимой, независимой и остается. Суть тленной и нетленной красоты в природе. И через музыку - самое двусмысленное из всех искусств Густав фон Ашенбах начинает понимать, что влюбляется. И эта любовь, запретная и разрушительная, не найдя себе выхода, убьет его. Но пока, есть жизнь, появилась надежда на обретение смысла. Смятение героя все нарастает. И на пляже, когда он встречает своего «оппонента» - ровесника Тадзио, противопоставляя одухотворенности Ашенбаха свои плотские желания. Смятение в попытке бегства. В первую очередь от себя, от соблазна, которое все больше овладевает Ашенбахом. И на вокзале, когда Густав узнает, что он не может сесть на поезд, дабы уехать, внешняя раздраженность знаменуется внутренней радостью. Как бы говоря себе: «Я пытался», Ашенбах с радостью, и музыкой в душе возвращается в отель. Светлая музыка, море, гондольер, как Харон, перевозит музыканта в свои владения. Всеобъемлющая строгость, доскональность в деталях, присущая Висконти, соединяется с тонким, почти невидимым ореолом самого автора, с его мнениями, мыслями, переживаниями. В Ашенбахе пробуждаются жизненные силы, энергия. Он снова может писать музыку. В холле отеля, Ашенбах застает Тадзио, играющего «К Элизе» В. А. Моцарта. И снова Густава посещают воспоминания. Аналогичная музыка играла в доме терпимости, который когда-то посещал Густав фон Ашенбах. Событие, которое дает ответ на вопрос герою и зрителю. Вопрос, который терзал Густава всю жизнь. Композитор не может дотронуться до ангелообразной куртизанки. Эта красота требует особых отношений. Смещает физиологические чувства. Герой впервые ощущает двойственность: та самая красота, которую он искал, не может принадлежать кому-либо. Она живет отдельно. И она должна жить! Психологическая драма героя все более разрастается. Нагнетание атмосферы с каждой минутой. По городу расползается холера, ведомая буйными ветрами Сирокко. Вот и церковь. Тадзио, как ангел, но в то же время - грех Ашенбаха. Как двусмысленность мира искусства. Колокольный звон, как поминальная молитва. Фарсовое веселье музыкантов, нанятых, чтобы увеселить гостей, словно пир во время чумы! Смех гитариста, его уродливый оскал - смех приближающейся смерти. И пустота... Узнав об эпидемии, пытаясь предупредить семью мальчика, Ашенбах в то же время продолжает бороться со смертью, со старостью. Попытка вернуть себе молодость, словно надгробную маску. Красота Венеции вначале фильма, вся прелесть, плавность отдельно взятого кадра в драматургии цвета сменяется Венецией инфернальной, угрюмой, болезненной. Густав следует за своим идеалом, мальчик же, как бы увлекая музыканта за собой. Аид! Руины, костры, обломки домов, запах хлорки, Тадзио - все это сводит Ашенбаха с ума. И тут двойственность окончательно овладевает героем - трудно разобрать: то ли его бьет в любовной лихорадке, то ли это первые признаки холеры. Обессиленный, падая возле колонны, Густав вновь вспоминает свою жизнь, осознавая неминуемость конца. И провал на концерте, и фраза друга, по сути дела, объясняющая идею фильма: «Болезнь, зло - питательная среда для гения», и звучащий русский романс «Пришла беда, тишь да пустота...». Прекрасное, удивительное сочетание музыки и кино. Сочетание смерти и жизни. Любви и... Финальную сцену Висконти изобразил предельно тонко и печально. На опустевшем пляже совершенно не пейзажной Венеции, в шезлонге сидит человек. Герой обрел поистине подарок судьбы. Тадзио - ангел, явившийся за душой, открыв Ашенбаху смысл понятия любви, заберет его в иной мир, где не будет боле «ни печали, ни воздыхания». Из-под шляпы композитора течет не привычная для подобных сцен смерти кровь, а краска для волос, символизирующая невозможность убежать от себя, от старости, от жизни. Люди решат, что убила его болезнь, невидимо идущая по городам и побережью, но люди всегда все видят неправильно. Перед самой смертью «...ему чудилось, что бледный и стройный психагог издалека шлет ему улыбку, кивает ему, сняв руку с бедра, указует ею вдаль и уноситься в роковое необозримое пространство». В то море, наверное, куда все когда-нибудь вернуться?! Фильм Лукино Висконти «Смерть в Венеции», на мой взгляд, лучшая экранизация произведений Томаса Манна. (scisserboy.livejournal)
Истинная красота. Стареющий композитор Густав фон Ашенбах приезжает в Венецию - восстановить силы, сменить обстановку, обрести покой и найти вдохновение. Это не седой старик, но возраст - он в душе, во взгляде. Среди отдыхающих его внимание привлекает мальчик Тадзио. Он не может поверить своим глазам - истинная красота существует, и она здесь рядом. Густав вспоминает то, что послужило причиной его отъезда - публика не восприняла его новую музыку, назвав ее мертворожденной, а ведь он всего-то хотел создать нечто совершенное. И вот, разуверившись, что идеал можно обрести на земле, он находит его здесь, в Венеции, и невольно начинает следовать за ним по пятам и в то же время мучается от внезапно нахлынувших чувств. Попытка покинуть Венецию не увенчалась успехом, сама судьба хочет, чтобы он остался в этом городе. Навечно. А на Венецию тем временем наступает беда. Да и не только на Венецию, вся Европа скоро будет в опасности. На дворе 1911. Но пока виной беспокойства холера - чтобы не терять туристов о ней предпочитают молчать, втихую дезинфицируют город и тайно вывозят деревянные ящики. Но Ашенбаху повезло - он узнает правду. И он хочет спасти красоту - он сообщает матери Тадзио страшную весть. Но самому ему спастись не удастся - Венеция не отпустит. Фильм снят по одноименной новелле Томаса Манна. Главного героя Манн писал с немецкого композитора Густава Малера, но в своем произведении он делает из него писателя. Лукино Висконти наоборот возвращает герою произведения Густаву фон Ашенбаху профессию его прототипа. В фильме звучит потрясающая музыка Малера, благодаря которой еще лучше удается прочувствовать драматизм многих сцен. Сам фильм получился необыкновенно трогательным, душевным, чистым и личным. Нельзя сказать, что Густав Малер=Густав фон Ашенбах=Лукино Висконти, однако то, что режиссер фильма пропустил его через себя и что для него он очень много значит - сложно не заметить. Апрель, 1970 - первые дни съемок. Белокурый швед Бьорн Андресен словно специально рожденный для роли польского юноши Тадзио. Ему ничего такого не надо было играть. Достаточно того, что он был - все остальное сделают режиссер и оператор. Светлое лицо, открытый взгляд, чистота и нереальная неземная красота, как на картинах мастеров прошлых веков. Такого просто не могло быть сейчас. Другое дело Дирк Богард. Эта роль далась ему не просто, но конечный итог - лучшая награда. Вместо обсуждения роли и режиссерских указаний Богард получил новеллу Томаса Манна и предложение прочитать ее столько раз, сколько он сможет. Пока не поймет своего героя. Слушать Малера и читать Манна - вот и все режиссерские напутствия. Что он и сделал. Необходимо было понять героя, его чувства, чтобы играть взглядом, жестом, тонко, едва уловимо. Все эмоции - на лице героя, в его глазах, уголках губ. Мимика в ленте очень важна, возможно, поэтому в конце фильма режиссер надевает на героя маску смерти - сложнейший грим, при нанесении которого его лицо и правда стало походить на маску, а после снятия - нестерпимо болело и покраснело, как от ожога. Но совершенство без боли невозможно. Те, кто помнит финальную сцену (одну из красивейших в кино), те наверняка понимают, что все было не зря. По словам самого Богарда после этого фильма ему все время предлагали роли всевозможных нечестивых священников и учителей, мечтающих о своих учениках. И все из-за неправильной трактовки его образа. 1 марта 1971 года в Лондоне состоялась премьера, которую почтила своим присутствием сама королева. Забавно, что незадолго до этого Лос-Анджелесские боссы отказались брать ленту Висконти в прокат, назвав ее безнравственной и «неамериканской». Впрочем, с самого начала продюсеры не были довольны тем, как шла работа над лентой и боялись того, что же в итоге должно было получиться. Основные претензии они предъявляли к сценарию и выбору актера на главную роль. Режиссер решил не обращать на них никакого внимания, в результате чего бюджет ленты был сокращен вдвое. А хотели продюсеры изменить две вещи: сделать так, чтобы вместо тринадцатилетнего юноши Тадзио в фильме была девочка, и чтобы вместо Дирка Богарда снимался более популярный актер. Ни с тем, ни с другим пунктом Висконти не мог согласиться. Он выбрал Дирка Богарда на роль Густава фон Ашенбаха еще во время съемок «Гибели богов» (весьма успешно прошедшей в американском прокате). Замена девочки на мальчика с целью избежать невольно напрашивающегося неправильного истолкования ситуации также была неприемлема. В ленте намеренно подчеркивается, что те чувства, которые вызывают в Ашенбахе юный Тадзио никак не связаны с похотью и лишены какой бы то ни было физиологии. Чистая красота - ее нельзя трогать. Видимо, американцам-материалистам понять это было трудновато. Тут же был вынесен на поверхность известный факт нетрадиционной ориентации самого режиссера и пошли слухи... Чтобы спасти фильм, Лукино Висконти был вынужден отказаться от гонорара, а другие участники ленты намеренно уменьшают свое вознаграждение, чтобы только появились деньги на фильм. На каннском фестивале зрители очень тепло приняли ленту, но кому-то из членов жюри она все-таки не пришлась по душе. В итоге главный приз достался английскому фильму Джозефа Лоузи «Посредник», что очень расстроило Висконти. Чтобы как-то сгладить ситуацию, а, может, понимая, что объективно «Смерть в Венеции» была сильнее, Висконти дают специальный приз. Встреча с абсолютной красотой смерти подобна. Познав неземной идеал, не к чему больше стремиться и нечего ждать. Это и наказание, и награда. Дар богов и небесная кара. Это гибель, но в самом прекрасном городе мира. Это «Смерть в Венеции». Сирокко, холера, страх быть непонятым и тоска по прекрасному. (Macabre)
Гибнущая, тонущая и оседающая в море каменная громада. Воплощенная в реальность сказка, торжество искусства над природой, дворцы на воде, стремящийся к небесам пышный Сан-Марко, буйство карнавалов, грязь в подворотнях. В самом этом городе с его острым, характерным запахом, ослепительной красотой изъеденной водой и временем архитектуры, есть не видимый с первого взгляда изъян, трещина, что-то хтоническое, мрачное, болезненное, тлетворное, напоминающее о смерти и о бессмертии. Удвоение всех изображений в зеркальной глади каналов - орел или решка, жизнь и смерть, Эрос и Танатос... Не зря, Николас Роуг снимая там фильм с метким названием «А теперь не смотри», явно намекал и предупреждал, мол, не играйте с судьбой, не ищите призраков прошлого за поворотами узких, извилистых улиц, не гадайте на будущее, не вглядывайтесь в эту мутную воду - затянет, засосет и не разглядеть там нечего, кроме смерти своей. Висконти тоже не мог не почувствовать ледяное даже в знойный итальянский полдень дыхание Венеции, но, как эстет, ведомый другими Богами, понимал все по-своему - он не может не смотреть, это тоже Рок, Судьба, но иного рода. «Кто увидел красоту воочию, тот уже отмечен знаком смерти» - слова Платена, хотел он сделать рекламным слоганом картины, хотя и так умел любые слова превращать в картины. Весь сюжет «Смерти в Венеции» укладывается в три лаконичных слова названия (один из которых предлог), все остальное - разрозненные воспоминания, обрывки мыслей и чувств, растрепанные рассуждения о красоте, смерти, искусстве, сплошные потоки сознания, пришедшего в точку, отменяющую здравый смысл и логические построения, туда, где невозможны любые разговоры и заканчиваются все слова. Это реквием по Малеру, с которого Томас Манн писал образ Ашенбаха, это реквием по несбывшимся чувствам самого писателя, реквием по красоте, реквием по утекающему сквозь пальцы миру и всему тому, что сложно поддается на язык изношенных человеческих слов, и тем более на язык кинематографической реальности. Висконти не стал вербализировать новеллу Манна. Он освободил выплеснутое на страницах мироощущение от власти букв, точек и многоточий, чтобы поместить его в другую такую же совершенную форму - Кино. Тягучее, плавное, медитативное, с неуловимой мелодией и ритмом, похожее на музыку Малера, которую невозможно отложить в голове и напеть, а только воспринимать. И главного героя режиссер возвращает к его первообразу, делая его композитором. Стареющий, больной, уставший, потерявший вдохновение, он растерянно бродит, как по Чистилищу, сосредоточению искусственной, созданной человеческими руками, красоты, - Венеции, чтобы в последний раз встретить красоту Божественную. Наплывают воспоминания, спутанный поток флешбэков, словно человек пытается успеть разобраться во всем и сразу. Вот Ашенбах, еще в Мюнхене, чисто по-немецки, рассуждает о том, что искусство не может быть неоднозначным, а творчество есть порождение разума, духовный акт, неподвластный чувствам. Но венецианская архитектура, математически высчитанная по строгим канонам и «Золотому сечению», каменные статуи, бессмертная музыка - вся искусственная красота бессильна перед естественной, нерукотворной красотой. Всюду он видит ее расставленные без видимого смысла метки, разбивающие все его рацио вдребезги, летят зеркальные осколки и больно режут. Смеются отражения, говоря, что настоящая Красота только и может быть, что неоднозначной, неразборчивой и случайной - это ее единственная привилегия, ее мощь, ее уязвимость. Все, от чего сжимается сердце, содержит в себе какой-то надлом, изъян или печать смертности. Все то, что нас лечит и одновременно убивает, все в этих чертовых / божественных противоречиях, разнонаправленных векторах, оксюморонах и причудливых капризах мироздания. Проститутка, с лицом красивого ребенка, наигрывающая в пошлой обстановке мюнхенского борделя, вечное «К Элизе». Жемчужина европейской архитектуры, обреченная уйти под воду. Самые сильные чувства те, которые не случились. Мальчик-андрогин, сочетающий в себе обычного смертного и бессмертный Дух Красоты, мужские и женские черты. Бесполы, амбиваленты ведь только ангелы? Дуален и весь опрокидывающий все с ног на голову мир, посылающий белокурое, невинное создание, предвестником смерти и холеры и дающий дар созидать, только самоуничтожающемуся, сжигающему в топке красоты самого себя. Слабая больная плоть во власти Духа, она не в силах устоять перед ним, она пойдет за ним к своей гибели, переступит через край, за которым начинается вечность. «Смертью в Венеции» Висконти постулирует смерть искусства, и одновременно, в качестве парадокса утверждает его бессмертие. С одной стороны, он говорит о существовании некой Высшей Гармонии, которая не дело рук человеческих, то есть утверждает победу над формой кино, с другой снимает Кино, утверждающее триумф формы над этим содержанием. Музыкой, как божественными слезами, выплакивается боль и любовь. Истинная поэзия пишется кровью, - вспомнить бы кто так сказал, ну да не важно. В чужом городе, где-то на пляже в Лидо, там, где небо смыкается с землей, а жизнь со смертью, Ашенбах превратит в свое последнее и самое совершенное произведение собственную смерть. Все искусственное, наносное уносится акварельными волнами прибоя. Жизнь плачет потоками туши и грима, чтобы проявить себя настоящую. А может мы все тоже произведение искусства неизвестного художника, след его твердой руки? Недешифруемое послание на рисовой бумаге, написанное тонким каллиграфическим почерком? И нет ответа, абонент недоступен, остается только смотреть вслед силуэту, исчезающему в лучах света, у самой кромки воды. Перенапряжение мозга от взаимопротиворечащих фактов. Их избыток, скачок электричества. И выбивает пробки. И разум перегорает, выходит из строя, бессильный перед красотой. Скоро застывшая в предчувствии апокалипсиса Земля проснется, ощерится войной, но только не для тебя. Зайдет последнее Солнце, прекраснейший на этой планете город утонет в холере или мутной воде. Твой мир перевернется, зашатается и уйдет из-под ног. Не надо понимать. Бесполезно пытаться. Есть только печаль заходящего солнца и красота. Небо, на которое ты смотришь. Воздух, которым ты дышишь. И смерть. И тоска. Падай в желанную бездну с распростертыми объятьями. Покидай этот странный мир без горечи. Без неприязни. Славословь ангелов. И покидай... (Movie addict)